Исторический ремейк без прикрас
Веле Штылвелд, лауреат международного конкурса
им. Вадима Кисляка за 1996 год, г. Воронеж, Россия
* * *
Новая публикация: эту публикацию своей наболевшей и наелозившей душу прозы "В Германию я не уеду" я ждал целых 22 года! И вот благодаря БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ІНШЕ ЖИТТЯ эта повесть, наконец, увидела свет. К тому же она издана тиражом 10 000 экземпляров!
Я очень хочу поблагодарить лично Президента Фонда INSHE - Балашову Елену Владимировну, и обратить внимание пишущей публики на ФБ - язык публикации не имеет значения - шлите и свои тексты - поэзию, сказки, рассказы - из прочтет международное жюри, а вдруг и Вы станете опубликованным автором.
Заходите на сайт фонда ІНШЕ ЖИТТЯ - и смотрите условия литературного конкурса. Но только Помните - конкурсные тексты принимаются до сентября 2017 года.
И еще одна маленькая просьба, не будьте безучастными. Проект Аллея Праведников в Бабьем яру уже обрел 377 симпатиков, из них - 86 человек - мои ФБ-друзья! Поддержите. друзья, проект! Мы должны всегда в нашим сегодняшних моральных поступках отталкиваться от нашего прошлого - больного, горького, очевидного.
Мир Вашему дому! А штыл андер вельт!!
 | |
INSHE:
|
ВМЕСТО ПРОЛОГА
Что сегодня представляют евреи в независимой Украине?
Это около 400 тысяч женщин и мужчин, задающие себе вопрос: “To be or not to be...”. Ехать или не ехать? А если и уезжать, то куда?.. И уезжают — ежегодно 0,043% населения независимой Украины. В прошлом году среди прочих в Эрец Исраэль навсегда выехала моя собственная старшая дочь. Сегодня в Украине быть бы ей после выпускного одиннадцатого класса такой же, как и я, безработной. Не состоящей в браке, без перспектив на самоидентификацию, изучившей в пятом классе на уроках народоведения заводную антисемитскую песенку времен постнациональных “змагань”, милостиво разрешенную Министерством образования независимой Украины:
“Били жидiв, били...” — обычно дочка зло пела эту проклятую песенку и плакала. Я запретил ей посещать уроки народоведения. В средней школе № 27 г. Киева назрел крупный конфликт. Через несколько лет этот ещё один проклятый маленький конфликт разрешило большое мудрое время — восемь одноклассников моей дочери навсегда отказались от украинского подданства и выехали в государство Израиль. Стояние их родителей в приемной Министерства образования Украины не оказались бесполезными. Песенку, побудившую наших детей навсегда оставить независимую Украину, исключили из школьной программы. Остались только сиротливые школьные тетрадки со словами проклятой ни в чем не повинными детьми песенки: “Били жидiв, били...”
Эту горькую книгу я посвящаю учителям двум киевских средних школ — № 27, где училась моя старшая дочь Леночка — Леська — Лия, и № 270, где учились припятские, чернобыльские, а позже киевские дети с ослабленным здоровьем, эвакуированные из эпицентра аварии на ЧАЭС города-призрака Припять, где я преподавал информатику в эти странные годы...
…С 1989 по 1993 год алия с Украины в Израиль составила около 130 тысяч человек. Приведу некоторые цифры:
— в 1989 году с Украины выехало 3 560 человек;
— в 1990 году — 59 115 человек (это было связано с ограничением въезда в США);
— в 1991 году — 13 525 человек;
— в 1992 году — 13 517 человек;
— в 1993 году — 13 496 человек.
С 1994 года в среднем в месяц открывается около полутора тысяч виз на постоянное место жительства.
Анализ этих цифр показывает, что в течение последних лет уровень алии Украины составляет 13-14 тысяч в год. Статистика, которая, как известно, знает всё — предполагает сохранение этой тенденции. Приведенные цифры говорят о том, что ежегодно с Украины, где по данным 1993 года проживало 474 тысячи евреев, репатриируется до 3% еврейского населения. Ещё до 30% от числа репатриировавших в Эрец Исраэль, на родину патриархов, принимают на себя США, Канада, Франция, Новая Зеландия, ЮАР и... Германия. Вот в число ежегодной тысячи еврейских репатриантов в Германию я не попаду никогда. И только потому, что в Германию я не уеду... Те же семь тысяч евреев-репатриантов, которые выехали из независимой Украины за 1991-1997 годы в Германию, искренне вызывают у меня горькое сожаление под песенный мотивчик знаменитого совкового барда Городецкого “Едут из Германии евреи”...
Я слушаю эту песенку и проклинаю Рейн с Бухенвальдом, клубничное эрзац-мороженое для послушных детей-остарбайтеров, среди которых до конца войны в трудовом лагере под Берлином числился мой отец. Я хочу посмотреть в лица этим людям, в лицо моего школьного коллеги и друга Эдуарда Березовского, работающего год за годом уборщиком бюргерских гнездышек с ежегодным двухнедельным выездом на Майорку, где в жарких, но беспечных объятиях пресытившейся Жорж Санд умирал великий и печальный Фредерик Шопен...
Мне дорога память о Фредерике Шопене, засланном на жаркую Майорку, о гетмане Многогрешном, сосланном в холодную Сибирь. о немецких евреях, сожженных в горячих газовых печах фашистских концлагерей... Вот почему — в Германию я не уеду...
Автор
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ СВЕЧА...
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОЭЙНУ МЭЛЭХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ХАНУКА.
Благословен ты, Господь, Б-г наш, владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший зажигать ханукальный светильник!
Я как-то решил удостовериться, что я не ксенофоб. Дело нешуточное. Сам всю жизнь был против вечного для наших мест антисемитизма и не новых для нашей земной юдоли апартеида, расизма и ксенофобии. Но тут, как на проявке крупнозернистой шосткинской фотоплёнки, вышло наружу то, что к Германии у меня крупные геополитические претензии, и только из-за того, что она существует на современной политической карте мира. Нет, я не усматривал на карте места для поствоенных колоний стран Коалиции. Хотя мне точно казалось, что в исполнение приведен план рекультивации третьего рейха в гречишное поле... Вот и всё.
Вот и всё. Куда ни глянь — поле, куда ни кинь — колосится, и ни единого немца на всей огромной земле... А над всем этим замечательным ксенофобическим полем витает дух Иосифа Виссарионовича, говорящий:
— Жить стало лучше, жить стало веселей!..
Человечество может вечно спорить об агрессивной природе молодых наций, но для меня навсегда остаётся актуальной одна из немногих трансформаций лозунгов оголтелых немецких наци: "Хороший немец — мертвый немец, а иначе — не замечать...". Ведь не замечают же и новых евреев в Германии. Там, где в газовых печах заживо сожгли прежних... По рецепту господина Геббельса: "Хороший еврей — мертвый еврей".
Секретный приказ Сталина породил эшелоны с тракторами, которые все шли и шли на запад, а в это время украинские и белорусские бабы вместе с такими же горемычными русскими запрягались в плуги и бороны, и тащили на себе рожать порытые минами и снарядами Поля — вчерашние Поля боевых сражений. И в это самое время новехонькие трактора совместно с приписанными к ним трактористами ехали перепахивать Германию от края до края. Во исполнение приказа номер сорок восемь.
До сих пор историки спорят, был ли такой приказ. Спорят зря. Я точно знаю: приказ такой был. Ведь в прошлой инкарнации я был советским генштабистом и держал этот приказ перед своим крючковатым еврейским носом, который выдавал за дар от самого полководца-цесаревича Багратиони, пусть и еврея, но зато ещё того генерала... Принца крови грузинского происхождения...
Сегодняшнюю Германию прикрывает ядерный зонтик НАТО. Это нелепо и дорого. Гречишное поле в подобной защите не нуждалось бы. Самое огромное на земле поле медоносов. С разрушенными Моабитом и Бухенвальдом. Нет. Даже тогда бы Бухенвальд разрушить было нельзя. Пусть бы и пчёлы ведали о горькой участи испепеленных. Но трактора так и не прошли по Берлину вслед за минерами, разрушающими за метром метр извечно вражескую территорию. Кто-то вмешался, и мировая история пощадила Германию, пощадила Берлин. Берлин, в котором мой отец в сорок пятом за пять пфеннигов покупал фруктовое мороженое и увозил его к себе в барак рабочего лагеря. Лагерь стоял едва ли не в центре Берлина, и работали в нём восточные рабочие: украинцы, поляки, чехи, словаки и сербы.
Сербов отец не любил... За нетерпимость, скаредность, неуживчивость, некую чисто славянскую, в арийском смысле этого слова, исключительность. Они умели оставаться наедине со своей ненавистью, со своей болью. Их обуревала гордыня геоисторического одиночества, отторженности, смятости, а посему некой непредсказуемой святости. Даже в аду.
А лагерное начальство ненавидело русских военнопленных. Они жили за двойной "колючкой" в центре лагеря, и их многократно гоняли на построение на самый кровавый в лагере Центрум-плац... В Берлин их не выпускали. Но и не уничтожали так массово, как евреев. Полмиллиона русских пленных всё-таки выжили и расселились по всей земле... Как когда-то римские рабы, евреи по всей Галуте, по всей проклятой мудрым еврейским Богом антической Ойкумене...
Я часто думаю, что со временем место евреев в мировой истории надлежало бы занять немцам, но его едва не заняли русские военнопленные...
А евреев едва ли не всех истребили планово именем Бога, именем мудрого еврейского Бога, принятого озверелой Европой за верховный символ мировой справедливости:
Бог-отец, Бог-сын, Бог-Святой Дух... Евреи, Евреи, Евреи...
Именем Вас и во имя Вас осуществлялся приказ Эйхмана об истреблении киевских евреев в Судный день 1941 года. Йом Кипур 29 сентября 1941 года. Пришёл однажды и Судный День ИСТОРИИ... Но Германия устояла — и ой, как напрасно... Теперь Человечеству не хватает мёда... А Судные дни всё идут и идут, унося грешников, прощая праведников и оставляя надежду на огромные поля медоносов на Германской земле. Но даже тогда в Германию я не поеду...
В новых хороших земных сказках старых плохих героев Человечества мудрые инопланетяне превращают в компост, а что до плохих держав, то их место на земле занимают целые оранжереи-материки.
Не минует участь сия землян — ой как не минует... А начал бы я прямо ещё тогда, в памятном сорок пятом, с Германии. Сегодня не иметь бы нам дело с нашей экологией и нашей ненавистью...
Трактора ехали в Германию эшелонами, пока совковые голодные бабы вели распашку колхозных минных полей, волоча на себе патриархальные бороны и трофейные культиваторы, разработанные дотошными немецкими конструкторами специально для запряжки рабов. В Майданеке таких же, но сожженных в газовых печах рабов, называли "поющими лошадьми"...
Но в это время гуманные генералы западной коалиции решали спасать тех, чьи внуки и правнуки снова смогли бы смять Европу своей храбростью и своим звериным подобием...
Ему было двенадцать. Немецкому мальчику Вернеру из социалистической Германии. Его никто не стал приглашать к себе в дом. Уж больно славянскими были черты его деревенского лица жителя Лейпцига. Стоял август шестьдесят шестого... Лагерь пионерского актива на Трухановом острове сделали международным. Били в огромные овечьи барабаны и плясали хору поджарые болгары, мелькали в соломенных шляпах кокетливые акселерированные словачки, гоготали и лопотали на своём страшном фашистском матёрые молодые немцы.
Курт, долговязый тринадцатилетний приятель Вернера, всё время бродил по лагерю в обнимку с рыжеватой конопатой Урсулой, и требовал от неё рабской покорности. Проявления животной раболепности перед подростком были у девочки разнообразными: то вдруг перед обедом она падала перед ним на колени, то вдруг прямо на пляже лезла целовать Курту ноги... В такие минуты к сладкой парочке тогда ещё незнакомого "Твикс" опрометью неслись руководители группы и переводчик, и что-то страшно строго гоготали над Куртом, пока он не отходил от своих дурацких затей... В такие минуты Урсула клепала на мир своими красивыми близорукими бельмами и по-дурацки шморгала носом. На лице у неё плыла отупело-похотливая, почти идиотская улыбка покорного полуживотного. Из-под махрового халатика выбивались упругие литые шары разжаренного мороженого, от взгляда на которое у многих парней и мальчишек начинали катиться слюнки и жарко пузыриться в штанах.
Был родительский день. Немцев по домам разобрали всех. Кормить вишневыми и мясными варениками и украинским борщом. В лагере остались только старый руководитель, он уже был однажды в Киеве, в сорок первом, и сладкая парочка, да ещё Вернер. Вернера к себе страстно желал пригласить я, но у нас на двоих с матерью была одна крайне бедно обставленная комната. В такую комнату администрация лагеря, руководствуясь инструкциями ЦК Комсомола, рекомендовала не приглашать.
А Вернер всё надеялся, что я его заберу, а мудрая мать всё не ехала и не ехала... К двенадцати у меня под мышкой оказался роскошный бархатный лев, который и сегодня, почти через тридцать лет, ещё не разлезся и не расползся по ниточкам и ворсинкам... Только львёнок и остался со мной, а Вернера забрала к себе какая-то страшно костлявая восьмилетняя девчонка Кристина, у которой в Киеве был двенадцатилетний живой братишка Максим.
Приехала и уехала мать, и я остался почти одиноко бродить по лагерю, пока не добрел до "немецких" домиков, откуда доносились сначала ужасные вздохи, затем идиотский смех немки Урсулы, а после какой-то разговор, перешедший на уговоры и раздирающий душу вопль. У палатки с вопившей Урсулой одновременно оказалось несколько советских детей и старый немец Отто. Он резко распахнул полог палатки, и тут все увидели совершенно голую, сгорбленно сидевшую на кровати Урсулу. Прямо на оголенные колени девушки всё время капал зажжённый перед её лицом расплавленный презерватив, а Курт разражался смехом счастливейшего на Земле человека, и всё ниже и ниже подносил к девичьему телу горящую резину.
Так бы и продолжалось всё время — вечность, но тут резко наотмашь, прямо по лицу, Курта ударил Отто. Он набросил на ноги Урсулы байковое одеяло, и только после этого возвратился к повалившемуся в угол палатки молодому садисту и сквозь зубы процедил ему прямо в лицо по-русски: "Жи-вот-ное!". Процедил так специально, что бы мы его поняли... А затем стал бить фашизоидного мальчишку ногами. Он бил его долго. Старый фашист бил молодого, всхлипывала Урсула, и так было до тех пор, пока их не развёл лагерный радист Николай. При этом он бросил:
— Довольно!.. Свои фашистские штучки оставьте для себя, ребята, для вашего Фатерлянда, для вашей любимой Германии...
Наутро об избиении говорили все. Отто отозвали в германское консульство, а Урсулу и Курта увезли в областную больницу... Сегодня у Урсулы и Курта выросли свои дети — в мире, где должно было быть гречишное поле, где и Отто, и Урсула, и Курт должны были оставаться только компостом. Не агрессивным, не сексуальным, а милым компостом, изъеденным гнилостными бактериями...
Земляне рождают детей, числом не менее пять...
— Я родилась от Изи...
— Я родилась от Отто...
— Я родился от Стринберга...
— Я родился от Ивана...
— Я родилась от Артура...
Право матери величать своих детей по матери...
— Я родился от Евы...
— Я родилась от Эльзы Кох...
А кто была она?..
Бедные арийские дети... Ваших матерей оплодотворяли победители...
— Я родилась от Нигера...
— И я родилась от Нигера...
— А я родился от Вайсмана, слава Богу, американца... Слава Богу, американца!..
Слава американцам!..
—Будь проклят тот, кто вписал в карточку цифру Пять... Ну, скажем, Четверых я смог хоть бы и на четвереньках... но где бы дал Бог отыскать душевных сил на ту Пятую, из-за которой и возникли непредвиденные нелепые трудности... Трудности репатриации в США... Каждая из Пяти женщин рейха должна была написать в моём солдатском дневнике несколько строк на память... Слава Богу, что немки трогательно сентиментальны, даже тогда, когда испытывают к тебе почти животную ненависть.
Урсула первая написала: "О таком сексе можно было только мечтать... Но будь проклято время, которое забрало моего мужа..." А секса толком и не было. Была близость, перешедшая на французские откровения. Ни французских булочек, ни шампанского в то голодное время для Урсулы в мире не существовало. Был только один известнейший на весь мир американский омлет. Да ещё трофейные корсиканские шпроты...
Хельга, вторая из Пяти, жила отвратительно кровожадно: здорово и отчаянно. Вот она как раз забеременела и родила Освальда. Он так же здорово орал по ночам, как прежде это делала Хельга...
Гертруда мычала от унижения. Её муж был эсесман. В чинах... Но она страстно желала пройти через все муки унижения во имя возмездия!.. Желала и получала своё. Когда она родила Ульрику, то собрала целый шабаш... Всех их там и накрыли... Эсесманов, юдофобов, эстетов...
Среди них и нашлась Эрика. Приблудила... Долго и бесполезно потел, с идиотскими уговорами. Рожать она не хотела. Но, в конце концов, родила и она. Ульбрихта... С ней было прекрасно... В карточке плюс и себе ничего... Пока не возроптала. Ложиться на спину и ноги разбрасывать вразбрызг перестала, а всецело ушла в себя и в нелепейшее для побежденной женщины материнство... Хотя кто назвал бы всякое материнство на Земле богонеугодным или неправедным?!.
Дети оккупантов... Во все времена, во всех странах озверевшей Европы они имели право на многочисленные вопросы, но только никто до сих пор так и не дал им исклюзивного интервью... Да и к чему? Слава Богу, им было позволено жить...
Им не делали наколки на ручках и на плечиках, их не упрекали более, чем войну. Им могли лишь напомнить. что в отцах у них числились недобрые дяди из оккупационных войск, и что и сами войска, и служившие в них отцы — американцы, французы и великобританцы решали в то время весьма специфическую задачу — задачу изменения сверхагрессивного германского менталитета будущих немцев.
Но кто посмел бы запросто утверждать, что именно французы или с бритами янки менее агрессивны? У французов были мсье Робеспьер и Наполеон, у американцев — генерал Першинг и президент Трумэн, а у бритов кого только не было: флибустьеров, колонизаторов, висельников... Тех ещё бравых парней... Почище трудяги Гудериана...
Можно и по-иному поставить вопрос... Оставшихся в живых немцев хотели только всего унизить... Но как можно было унизить компост, в котором уже весело копошатся дождевые черви и, в унисон с ними, натруженные солдатские фаллосы... Во имя чего же, Господи?.. Разве только не во имя того, чтобы сыну какой-нибудь Регентруды или Гретты отныне не быть бравым солдатом одного только Вермахта... Отныне ему надлежало быть ещё и примерным солдатом войск блока НАТО...
— Yes, my sir!.. — вместо — Jawol, mein Furer!..
Дети Германии на поверку редко могли оставаться немцами. Они могли либо "русеть", либо "англосаксонеть", пока бы не перевелись на две противоборствующие в себе же самой нации. Ан нет! И здесь История распорядилась иначе, и даже предложила новым немцам укрепить свой расшатанный менталитет и пригласить к себе потомков сожженных и несожженных в газовых печах евреев. Да, были и такие морозостойкие сталинские евреи, которых эшелонами увозили в эвакуацию. Они и понадобились Новой Германии для регенерации в себе духа бюргерского благополучия и даже, чёрт побери, особого германского Великодушия, которое как раз и состояло в том, чтобы однажды воскликнуть:
— Мы кормим Вас, Господа евреи! Странствуйте к нам, и оседайте под наш патронат милостивых бюргеров. А фашизм... Был ли он в прошлом?.. Скажете, был... Но давайте совместно, да ещё на сытых хлебах, его просто не замечать... Ведь как это — вдруг взять и отменить Германию?!. Это же нонсенс!.. Германию отменить вот так вот разом нельзя.
Пардон-извините, можно. Ведь отменили же в пределах прошлого СССР целую Карело-Финскую республику на том основании, что там было всего два финна — товарищ Финкельштейн и гражданин Фининспектор... И то, как оказалось, надо же(!..), это был всего один человек... Наверное, в самой Германии, приглашенных, морозостойких, наших фининспекторов куда как больше.
И все они на полном безбедном пансионе тех, кто должен был бы стать компостом. Компост же, извините, не может быть благодушным...
Сразу после войны разрушенная и разделенная, прежде великая Германия превратилась в бесчисленное множество гарнизонов, караулов, зон для перемещенных и тюрем разной степени строгости... Это и была пришедшая на смену гитлеризму оккупация союзными войсками. Далее каждая из сторон выступила со своими конкретными пунктами по окончательному решению пресловутого германского вопроса. И тогда в советской зоне так и остались квартиры, гарнизоны и военные городки, с больной психологией живущих в них оккупантов и оккупированных...
Так было повсеместно, так было и в маленьком полувоенном полугороде, полугарнизоне Франкфурт-на-Одере. Там и прошло гарнизонное детство моей русской жены. Уже в те времена германцы в подобных полугородках славились дешёвыми детскими лакомствами и стойкой неприязнью к советскому офицерскому корпусу — костяку оккупационных войск... Этот костяк обходили немки, и он всецело посвящал себя охоте на благородных оленей, в период которой сам мог обрастать рогами большими, чем убиенные новым махровым офицерьём ни в чём не повинные благородные сохатые особи...
Гарнизонные Дон Жуаны не дремали и упорно способствовали росту достаточно ветвистых рогов у своих зампотехов и замполитов... К такого рода трудам праведным и беспутным никакого отношения не имели советские гарнизонные дети... Они не стремились заимствовать жизнь своих нафаршированных сытых родителей, о скрадерности которых в Союзе вовсю ходили легенды. Что там и где бы ни говорили, однако даже простые солдаты носили полушерстяные галифе и такие же образцовые гимнастёрки... Показательными для немцев были даже обыкновенные солдатские ботинки из добротной кожи, а уж когда дело доходило до простых солдатских портянок, то и они являли собой образчики индо-китайско-советской дружбы типа: "Хинди руссам — пхай, пхай!..".
Да, солдаты оккупационных советских войск нашивали едва ли не махровые индийско-китайские портянки, о которой мечтали с тоской даже опальные советские военачальники... Старался для них и родной советский хлопковый Узбекистан, не стонавший ещё от многочисленных дел и подрасстрельных процессов эпохи проклюнувшейся перестройки и последних хроников генсеков — берсеков-головотяпов конца советской эпохи.
А гарнизонные, вполне сытые, вполне советские дети разномастных военнослужащих для своих детских нужд довольствовались десятью-двадцатью пфеннигами, и это их радовало... На эти крохи они покупали либо брикетики молочного ириса, либо чудеснейший лимонад, и потом долго смаковали свои невинные лакомства, обсуждая их с чисто совковым менталитетом... К ментальности гарнизонных детей относилась и ярая приверженность к советским мифологическим ценностям... К тому же каждый мог проверить себя в практически чуждой среде в окружении недобрых и чуждых Душе фашистов...
А между тем во Франкфурте-на-Одере жили простые немцы со свойственной им укладом и восприятием повседневности... И если для советских офицеров с младых ногтей были цыплята табака и полусекретные опусы и формуляры типа — "К событиям в Чехословакии", то для немецких женщин пять тысяч немецких солдат, введенных в Чехословакию, были настоящей трагедией. О ней они и говорили, забывая кормить даже грудничковых детей, а то и просто бросая их под витринами магазинов на бестревожных чистеньких улицах. Шёл 1968 год, и в декабре, уже после того, как в августе советские танкисты и немецкие мотоциклисты объявились на пражских улицах, советские хоккеисты со счетом 3:5 проиграли чехословацкой сборной на легендарный кубок "Известий".
— "Это Вам за август!" — скандировали чехословацкие газеты... А инструкция к советским военнослужащим разъясняла: "...В Чехословацкой республике требуют прекратить публикацию статей с критикой западных государств и весь огонь критики направить против СССР..."
Нам, советским, было крайне удивительно — за что?.. В конце концов, — мы ведь не германский компост с орущими до синего сипа, брошенными заболтавшимися молодыми немками, младенцами... Один такой младенец орал до того долго и натужно, что сердце маленькой русской девочки-сладкоежки не выдержало, и она принялась его тихо качать... Младенец уже сипел, когда из продмага выскочила коротко стриженая и подбритая под Гавроша длинноного-грудастая молодая немецкая мать... Больше всего её ужаснула сама русская девочка, качавшая малыша... Немка-мать резко и резво вырвала ручки коляски из рук русской девочки и попыталась ретироваться, но тут сердце маленькой сладкоежки не выдержало, и она заорала:
— Ты фашистка. Таким, как ты, нельзя иметь детей... Таким, как ты — место в эсэс!..
Русской девочке было двенадцать. Немецкой женщине — двадцать два... В конце 1968 года одна была дочерью оккупанта, вторая — дочерью вахмистра из Бухенвальда, так и не возвратившегося из Сибири... В Бухенвальде хранились волосы и коронки десятков тысяч заживо сожжённых, испепеленных людей, а та немка, возможно, родила от поляка, бежавшего из полуголодной Польши, в которой социализм приживался почему-то крайне хреново...
К тому же сама немка помнила ещё те годы, когда её мать засыпала в объятиях русских солдат-победителей, а затем они ели советскую тушенку и жарили трофейный американский омлет. В конце концов, мать решилась и родила Вилли, так похожего на любителей королевской охоты... И Вилли теперь, в свои двадцать, чертил вокруг себя меловый круг ненависти в оккупированной вновь немцами Чехословакии. Кто переступал линию мелового круга, в того Вилли стрелял прямо в упор, и потому выжил, и не превратился в компост... Но сестра так и осталась для Вилли головной болью... Когда ему было восемнадцать, он даже решительно переспал с ней, чтобы доказать каждому и себе, что она ему не родная. На это его постаревшая мать Эльза очень мудро заметила:
— С таким же успехом тебе бы следовало переспать и со мной... Обладание человеческим телом в жизни нации ничего не меняет... А вот сестра — то она теперь тебе, должно быть, стала родней и ближе... Ни она, ни ты, ни в чём не повинны... Это просто нелепо доказывать своей правой руке, что левая только в том виновата, что умерло всё старое тело... Если у тебя с прошлым опять возникнут определенные нелады... то либо помолись Богу, либо снова отдайся сестре... Не ты её брал, а она имела тебя, слабого, едва не бессильного... Она никогда не родит такое слабое существо. Она заставит его орать до осипу, но быть настоящим, а не синтетическим немцем...
Уже возвратившись в Германию, выживший в Чехословакии сын советско-германской дружбы прямо в карауле выпустил пулю прямо себе в висок. Из линейного скорострельного карабина Симонова... Хоронили застрелившегося сестра и мать... Очень тихо, как и следовало бы хоронить советско-германскую дружбу... И только польский немец Зигфрид, как и обычно, орал до осипу, как и полагалось тому, чья мать — молодая фашистка... А фашистка ли? Моя будущая жена в свои двенадцать судила на этот счёт крайне строго... Сегодня так же, как и тогда, смело я судить уже не берусь... Но ненависть, идущая через детство, и только одна она может быть настоящей... Об этом я уже знаю наверняка...
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВТОРАЯ СВЕЧА...
Вас били на улице? Их убивали.
За что? — Не сказали, а только кричали.
Их били. И из домов выгоняли.
Куда? — Не сказали, но все это знали.
Их били на улице... И убивали.
Дмитрий Аквилов, 1998 год, исход ХХ-го века.
Немолодой уже человек, киевский поэт и переводчик Владимир Ковальчук в своей "фотографии без прикрас" описал глазами ребёнка очередную в истории "германизацию" Киева. Правда, попытки эти идут и до сих пор, идут под прикрытием гуманитарных эшелонов, в составе которых очень часто оказываются целые грузовики бочек с отравляющими веществами. Так, например, в 1991 году везли гуманитарную помощь чернобыльским детям. Но об этом я расскажу позже, а пока я предоставлю слово киевскому ребёнку страшной военной поры, поры немецко-фашистской оккупации Киева Володе Ковальчуку:
ОККУПИРОВАННЫЙ КИЕВ.
(фотография без прикрас)
(Воспоминание киевского поэта Владимира Ковальчука)
Я родился в Киеве, прожил в нем всю жизнь, в том числе и во время оккупации, и то, что хочу сказать, воздерживаясь в меру сил от всяких комментариев, является только изложением голых фактов, рассказом о событиях, имевших место в действительности. Безжалостен ход времени, и через ещё каких-нибудь десять-пятнадцать лет уже не останется в живых ни одного свидетеля минувшего. Для новых поколений оно станет, подчиняясь естественному порядку вещей, в сущности безразличным, так как не будет ничем затрагивать их конкретные интересы в той жизни, их жизни, лучшей или еще более чудовищной, чем прожитая нами, "детьми войны".
Но, как и всегда в истории Человечества, прошлое, конечно, станет предметом бессовестных спекуляций и лживых трактовок в борьбе за власть между рвущимися к ней или стремящимися ее сохранить структурами. И да поможет правде Бог, если Он есть! Ибо, как написал один мой знакомый литератор Леонид Нефедьев: "Дьяволу угодны те, кто плоды раздумья срывает с дерева незнания".
...Итак, до войны я с отцом и матерью жил в одной из комнат густо населенной коммунальной квартиры на улице Пушкинской. Мягкий свет настольной лампы под зелёным стеклянным абажуром и солнечные зайчики на обоях перед закатом солнца — вот и всё, что помню о тогдашнем первом своём доме. Да ещё наш балкон на втором этаже, под которым парадное с проходом на Крещатик — пассажем.
О первых месяцах войны в памяти только выстрелы зениток, в точности напоминавшие звук сбрасываемых на асфальт с грузовика бревен, и, перед самым приходом немцев, слова одного из соседей в квартире: "Рвут склады боеприпасов..."
Ещё помню: наши ушли, немцы ещё не вступили, приходит отец и рассказ матери: "На Крещатике грабят Центральный универмаг..." Несколько дней после вступления немцев все было тихо. Правда, горели вовсю дома... Сгорел и наш дом, и мы перебрались в оставленную эвакуировавшимися хозяевами квартиру на улице Паньковской, напротив которой в голубом подвале жила моя бабушка по матери, Марья Ивановна, баба Маня. В новом жилище — полная обстановка и даже пианино, а напротив во дворе между подвалом бабы Мани и нашим балконом на втором этаже большая плодоносящая груша...
О ней: летом 1942 года на неё напала тьма гусениц, полностью объела, и жутковато было как-то смотреть на абсолютно черное под жарким солнцем дерево без единого листочка. Но дерево тут же ожило и снова зазеленело. Теперь его давно нет, даже пенька, двор заасфальтирован, и первые этажи оставшихся зданий заняты какими-то офисами с ограниченной ответственностью. Весьма ограниченной. А до того — зимой 1942 года фрагмент: я, в старом зимнем детском пальтишке, воротник которого оторван с мясом и торчат клочья ваты, а на мою голову накинут женский шерстяной платок, перебегаю через двор по глубокому снегу и в жестокий мороз в подвал к бабе Мане. Холодно. Очень холодно.
...На протяжении неполных двух лет оккупации, это была война в разгаре, но... Были всего две или три бомбежки занятого захватчиками города. Невозможно забыть: чёрное ночное небо, никаких прожекторов, только все над головой исполосовано разноцветными трассирующими очередями установок немецкой ПВО, ведущих ожесточенный огонь, а на город падают тяжёлые бомбы. Оглушительный разрыв — и в нашей комнате дома на углу Паньковской и Жилянской вышибает из окон стекла. Бомба упала на Паньковской чуть выше улицы Саксаганского. Утром я ходил смотреть: глубокая воронка от тротуара. Вторая бомба упала на мадьярский госпиталь неподалеку и не оставила от него ничего.
Ещё одна ночная бомбежка: превращены в груду кирпичей несколько двухэтажных жилых домов по улице Саксаганского между Паньковской и Караваевской. Утром немецкие зондер-команды извлекли из-под развалин несколько десятков трупов жителей этих домов. Осталась разбитая и обгоревшая мебель да кое-где книги вперемешку с кирпичами.
Через пару дней я нашёл там и принес более или менее целую книгу: это был первый, прочитанный мною, Александр Дюма... Да простит мне её бывший хозяин там, на небе: мне было всего восемь лет. Первый месяц после освобождения Киева немцы каждый вечер бомбили его, но все эти бомбежки, вместе взятые, не идут ни в какое сравнение ни с одной нашей родимой: был только привычный уже шум вдали, нечто вроде звукового оформления фильма о войне.
А как же, в общем-то, жили мы, те, которых некоторые из вернувшихся потом из эвакуации называли "немецкими овчарками"? Мы, которые долго ещё после войны во всех анкетах отвечали на вопрос: находился ли на оккупированной территории? Жили. Хлеб наш насущный кто-то образно назвал "золотым". Почему? Это была шелуха от проса, замешанная на минимальном количестве муки для связки. Во рту этот хлеб рассыпался, как песочное печенье, жевать его не было смысла, можно было только сосать — и кислый вкус во рту оставался ненадолго. На свету буханка переливалась золотыми искрами наподобие современного люрекса. Да ещё, как это сегодня называется "минимальная потребительская корзина", и состояла из ежедневных картофельных дерунов, поджаренных на постном масле. Иногда меню разнообразилось вареной картошкой с солёными огурцами...
Когда же голод достигал нестерпимого предела, семья собирала кое-какие носильные вещи, спасенные от пожара, и, взявши с собой санки, на которые прикреплялся фанерный ящик с двойным потайным дном, мать уходила на неделю-две по сёлам менять. Иногда за сто километров пешком в жестокие зимние морозы. Её возвращение воспринималось как праздник. Помню: перед Новым годом она выменяла целого гуся, и мы ели его почти месяц понемногу. Один раз случилось и такое: по пути домой патруль отнял у неё все. Чей патруль? Здесь должен, как перед Богом, засвидетельствовать: украинские полицаи. Немцы, как правило, относились к населению, возвращающемуся из сел с выменянными продуктами, нейтрально, ограничиваясь лишь проверкой документов. Но, не дай Бог, было попасться полицаям. Ограбление в таких случаев было неизбежно, иногда этим не ограничивались, некоторых избивали. После того случая и появилось тайное двойное дно в ящике на санках.
... Летом 1993 года по каким-то делам довелось мне проехаться катером вниз по Днепру, около часа хода. И, когда катер причаливал, я испытал своеобразный стресс. Я не мог поверить своим глазам: что это, дурной сон? Сбоку от дебаркадера среди встречающих стоял человек в чёрном мундире, чёрных галифе и сапогах, на голове у него была чёрная пилотка. Это точная копия обмундирования полицая тех времен. И до сих пор не могу понять — что происходит?.. Плевок в лицо всем, что ли?
...Что касается пищи духовной — она тоже была. Когда начинал гореть наш дом на Пушкинской, родителям удалось спасти и некоторые книги. Они и те, которые потом брали у соседей, жадно прочитывались мною, я рано научился читать. Читал всё, начиная от второй части "Трёх мушкетёров" на украинском языке или стихов Пушкина до шикарного дореволюционного трехтомного издания “Вселенная и Человечество" и "Жизнь насекомых" Фебра. Но была и духовная пища другого рода: я не помню, что там было написано, но сам держал в руках вполне официально издаваемый с благословения оккупационных властей листок-газету СУН.
...Что касается некоторых деталей быта — разве их все припомнишь сейчас? Помню: по Жилянской идет маршевая часть немецких солдат. Очень своеобразная картина: в бычьих касках со шмайсерами идут молча, отбивая сапогами по мостовой. Затем неожиданно резкие, как собачий, лай, звуки песни. И снова полное молчание и топот сапог. Или, например, зашли двое таких в касках во двор, что-то искали. И тут же короткой очередью застрелили у меня на глазах облаявшую их дворняжку.
...Сегодня тоже стреляют. Могут среди бела дня на улице Дмитриевской на глазах у всех прохожих обстрелять из пистолета белый “мерседес”, сесть в “жигули” и спокойно уехать. Тоже бытовая картина...
Финал наступил в ноябрьские дни. Около месяца до них из центра Киева были отселены все жители по окраинам, город опустел. Месяц слышалась отделенная канонада, и по улицам периодически разбрасывались указы немецкой военной комендатуры. Которые никто не читал. В ночь на кануне освобождения полнеба над Киевом со стороны Днепра полыхала багровым пламенем, жгли все на Трухановом острове. В полтретьего ночи со стороны Евбаза по Жилянской в сторону Деловой промчалась грузовая машина...
Это были последние немцы, которых я видел с оружием в руках. А утром я стоял на Саксаганского в квартале между Паньковской и Тарасовской. У бровки тротуара под ногами у меня лежал патрон от бронебойного ружья, а со стороны “Ювбаза” шли наши солдаты. В плащ-палатках, некоторые с перевязками. Шли белорусы, украинцы, сибиряки... Шли наши!
С тех пор прошло более полувека; всё как в тумане. Но до сих пор подкатывает у меня к горлу, когда вспомню это утро... И неважно, в конце концов, что долго ещё потом во всех анкетах мы отвечали на вопрос: находился ли на оккупированной территории?..
Окончить воспоминание в наше иррациональное время хочу словами Георга Эберса:
"...Легкомысленные люди быстро отрекаются от всего установившегося; глупцы находят хорошим и достойным подражания все иноземное и новое; люди ограниченные или пользующиеся привилегиями себялюбцы, безусловно, придерживаются старины и всякое движение вперёд называют грехом; мудрецы же стараются удержать то, что оказалось хорошим вследствие долголетнего опыта, устранить повреждения и принимать всё хорошее, откуда бы оно ни происходило...".
Внимательный читатель уже заметил определённую особенность этого разнородного повествования. Факты излагаются на языке Детства. Помню, как покойный родственник со стороны моей русской жены рассказывал мне о том, как по Андреевскому спуску в Судный день — Йом Кипур 1941 года — поднимались на Большую Житомирскую неторопливые колонны людей — стариков и молодёжи... Эти колонны прошли в небытие Бабьего Яра, как и колонны с Шулявки и Татарки, Ширмы и Липок, Сырца и Куреневских глинобитных халуп...
Со всего Киева шли евреи, но то и дело в колонны вклинивались любопытные киевские мальчишки, далеко не евреи, но люди крайне нуждавшиеся в свежайшей на всей земле информации... Возможно, что именно так, сверхинформативно только и способно мыслить вызревающее человечество... Ибо недоинформация, как правило, росту не способствует, а даже наоборот...
Двенадцатилетний славянский пацан из многодетной семьи не пытался как-нибудь изменить мировой порядок... Но просто он пришёл попрощаться с соседским Ицыком, уходившим в свою ветхозаветную Палестину, отчего и тому на душе стало повеселее... Однако, на выходе с Андреевского, у Собора — известного детища волнительного Бартоломея Растрелли, Ицык и Митя впервые поняли, что из колонны им больше не выйти, даже за маленьким. Со всех сторон колонну сопровождали лишь чёрные мундиры да чёрные овчарки...
Я так и не задал тогда щепетильный сегодня и навсегда вопрос, и не уточнил для себя: были ли то украинские или немецкие конвоиры... Впрочем, они могли быть и мадьярами, которым гитлеризм сумел дать почувствовать себя на земле в роли сильных злостных животных... Почти арийцами, чья жестокость и маниакальность развязала в Европе не одну и не две кровавые бойни... Страшные... Глобальнейшие... В полный рост. Наравне с зондеркомандами третьего тысячелетнего рейха...
Звериная межнациональная ненависть таилась в каждом народе тысячелетия. Этому всегда способствовал неуютный для отдельных императоров и целых Хап-Тяп империй мировой микроклимат. Не пробуди в нашем случае в мадьярах и украинцах Вторая мировая война древнего и жуткого зверя — фашизоидного германизма, то убийцы и висельники из народов, над которыми распростёрся фашизм, сублимировали бы в обыкновенных житейских сволочей, не вкусивших власти и крови.
Полицаи, казалось, были ослеплены. Они слепо выводили колонны на расстрел со всех щелей древнего еврейского Киева, не обминая Киева татарского, литовского, польского... И, конечно же, — украинского. В те минуты колонны вели мимо спрессованных под холмами Старокиевской горы ста тысяч убиенных во времена монголо-татарского нашествия... Убиенные сии сразу после войны, не разобравшись, приписывались зондеркомандам третьего рейха. Но и здесь Германию реабилитировала сама История...
— Митя, ты дальше ни в коем случае не пойдешь, — мудро и горько сказал здесь старый отец Ицыка Мейтл... — Здесь наши пути расходятся, или, по крайней мере, того желает Б-г... Не ты еврей, не тебе и ответ держать... Это испытание выпало нам от Б-га... А вдруг и увезут... В Палестину. Наша Палестина тебя не касается... Ну что там делать тебе, без твоих многочисленных братиков и сестричек..
— В колонну! — рявкнул конвоир. Пьяный, в чёрном “мертвоголовом” мундире. Оказался из наших. Этим-то обстоятельством и попытался воспользоваться старый многодетный еврей Мейтл.
— Но, господин полицейский, мальчик — гой. И к тому же у него свело живот...
— У всех тут вас ..., у всех животы посводило. Небось, смерти боитесь... Нехристи!..
— Ну отчего же, господин полицай. Вон там у нас и скрипка играет... Слышите? Кажется, Мендельсон... Мы здесь прямо как на концерте. Но даже на концерте маленькие дети хотят делать пи-пи...
— Пусть и мочится себе в штаны. Идти здесь недалеко. Никто и простыть толком то не успеет. Вот ведь и профессор из консерватории как будто прямо для вас наяривает. Как на свадьбе... Да и невест здесь до хрена... Сегодня всех и пережарят... Чёрные женихи... — полицейский злобно выругался и подленько засмеялся. Он уже знал об участи обречённых. Пусть никто и никогда не соврёт больше ни слова!
Он и подобные ему знали, что последние номера будут “отмачивать” немецкие ротные пулемёты... После недолгой тяжёлой паузы, когда даже замолчала скрипка профессора, отец Ицыка повторил осипшим от холода голосом глухо и убедительно:
— Мальчик ваш! Не станете же вы его гнать с нами до самой Палестины.
— Он сам выбрал себе судьбу...
— Но пусть пойдет себе до витру под конвоем. Грицько, визьмы цього шкета на мушку. Втикатиме, стриляй прямо у цюрку...
Колонна то подвигалась, то стопорилась по каким-то законам, написанным Богом только для обречённых. И только теперь, на обочине, мальчик Митя понял, что всех этих людей сегодня ведут на смерть... Так же как и его... А ведь он же ни в чем не повинен. Он же не еврей. Сработало злое, инстинктивное: за что? Их, хоть понятно за что... Ну хотя бы за то, что они евреи... Хоть Ицык отличный друг... Но сейчас Ицык уже далеко впереди, и звуки скрипки ушли туда же.
Кто обучит ненависти этих людей?.. Когда они погонят в таких же колоннах немцев в какой-нибудь придуманный для немцев свой Бабий Яр только за то, что они немцы. Присев на корточки, маленький Митя сделал невероятный кульбит, и вдруг побежал неожиданно, отчаянно, во весь опор... Он и не почувствовал, как рухнул под откос. Чуть выше исторического музея. Сверху его прошили автоматные очереди, снизу его принял героический двенадцатый век — век, когда поляне, древляне и русичи до последнего защищали, но так и не защитили, легендарный древний Самватас — древнейший и последний в своём горьком величии на земле град Киев. Византийцы называли Киев Самватасом, любомудрым, не зря. — Киев действительно стал городом любомудрых людей. Последние любомудрые защитники Десятинной церкви защищали и горели в ней заживо. Так погибал Самватас, но словно Феникс, столетие за столетием, возрождался из пепла Киев...
Так же заживо горела душа у двенадцатилетнего славянского мальчика, когда не в Сердце стреляли, а обрывались на Сердце струны — сперва на смычке, а затем на скрипичных эфах его хрупкой души. Да, его душа стала подобна скрипке старого музыканта... Профессор киевской консерватории... Он был одним из тридцати одного расстрелянного родственника по материнской линии... Доживи он до наших дней, я бы не влачил жизнь нищего школьного учителя Украины, а как мог бы играл на скрипке, ибо первым образом именно к ней тянулась душа, жившего во мне когда-то ребёнка. В той партии последним расстреляли его — профессора киевской консерватории, а он всё играл и играл для тех, кого вели на расстрел...
На Симху Торы древние свитки читать стало некому. Были, правда, немногие, кто спрятался и кого перепрятывали — из квартиры в квартиру. Но начались расстрелы коренного славянского населения... Сегодня часто забывают об этом радетели украинско-германской дружбы. А тогда... Пора было вплотную заняться решением славянского вопроса и превратить украинцев в безропотных и покорных рабов либо уничтожить... Рабы же не способны были сострадать; не оставалось последних душевных сил, и последние обессиленные евреи оказывались на улицах... Их не выгоняли. Они со свойственной для евреев деликатностью выходили на улицу сами. Так начинался Исход... Молодая красивая еврейка неслась под колючим октябрьским ветром вниз по Андреевскому спуску, и маленький Митя видел, как на неё спустили чёрную немецкую овчарку.
Собака злобно рвала вишнёвое добротное демисезонное пальто, под ним — кашерно-длиннополую юбку, и, наконец, литые стройные ноги, превращая их икры в голое кровавое месиво. Подоспевший полицай выстрелил жертве в висок, избавив девушку от страшных мучений... Собаку долго не могли оттащить уже от мертвого тела... Затем полицай столь же долго осматривал мёртвую, отыскивая золото, но как видно, та отдала его своим прежним хозяевам за временное убежище... Увы, Праведниками мира спешили становиться немногие.
На шее у мертвой девушки оставался крохотный могендовид, да ещё миниатюрный серебряный медальон. Обе вещи перешли в нагрудный карман полицая, а неприкрытое окровавленное тело так и осталось лежать ничком, никем не прибранное, и в праздник Торы не горели светильники в синагоге, и никто уже не мог прочесть миру о великом духовном подвиге благородной Эстер. Нация псевдоариев, барсеков двадцатого века, разбудила ненависть молодых наций и направила её в истерическую всеобщую ненависть всех единственно против моего древнего народа планеты. Только уже за это сия грязная ничтожная нация фашизоидов заслуживает вечное проклятие... И пятьдесят лет истории — ещё не срок. Немцев я не прощаю! Будь прокляты они, как и велит Тора, до седьмого колена! А молодые и старые европейские народы рано или поздно прейдут в себя и покаются в своих нелепых провинностях, но только без Германии. Компост я не стал бы прощать, а оставил бы быть компостом в назидание Человечеству...
Киевский поэт Борис Финкельштейн стал лауреатом международного литературного конкурса Вадима Кисляка — воронежского мецената (Россия) в один год со мной. Это произошло в 1996 году, ровно через год после того, как был написан на школьных учительских переменах черновой вариант романа “В Германию я не уеду”. Его сегодняшнее виденье не вчерашних проблем Бабьего Яра взволновало устроителей этого международного литературного конкурса.
Россияне вплотную задались уже не праздным вопросом — а не может ли случится подобное в самой России с одной из коренных наций составляющих её цветастое многообразие, и как поступит подобная нация в этом случае... Война в Чечне показала — современные нации способны защищать себя от тотального геноцида тех, кому в очередной раз пришлись не по нраву какие-то на сей раз чисто чеченские национальные и культурные отличия от иных. А в 1997 году, когда уже на многочисленных киевских поэтических тусовках регулярно спорили: чего больше в поэзии Бориса Финкельштейна — политики или поэтического мастерства — сам я в подобных диспутах уже не участвовал — весь год не отходил от кровати парализованной “чернобыльским” инсультом матери, и только Борис сумел добиться, чтобы с мая 1997 года под свой патронаж её приняла международная благотворительная организация “Хесед Авот”. Стихи Бориса добавляют виденье киевлян старших возрастов проблем Бабьего Яра:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БАБИЙ ЯР
Борис Финкельштейн.
Преклоните колени,
Руки скорбно сложив...
Правды память нетленна
и в наручниках лжи!
О, Бабий Яр! Остановитесь люди!
Здесь память расписалась на сердцах!
Прошло ли, есть, в дальнейшем будет:
Детей убийца в маминых глазах?
Когорта обреченных — млад и стар
сошлась на сей последний в жизни суд...
Остановитесь люди! Бабий Яр...
Евреи в неизвестное идут.
И воля не своя их привела в тот ад,
и воля не своя их к смерти призывала...
Полвека минуло, но бросим взгляд назад:
Давно ли это? Много или мало?
Три дня шёл нескончаемый поток:
без малого, сто тысяч без защиты...
Скольким корням здесь подведен итог?
А сколько душ потоком смерти смыто?
Под звон фанфар гремел свинцовый град,
стенанья звуком музыки глушились...
А палачи над жертвами глумились
в предвосхищеньи будущих наград.
Душа ста тысяч птицей вознеслась,
смешавшись с синевой бездонной неба.
Мечта о будущем зверино пресеклась,
и свет погас... Яр обернулся склепом.
О, мой народ! В чём был ты виноват?
Тебе в вину предательство вменяют...
Тебя же предают, тебе же изменяют...
"Иудин вымысел" — он мельче во сто крат.
Вначале ты оставлен на убой
заведомый, тем паче без защиты...
Затем, годами лжи, дурманил Строй
ту правду, что теперь почти раскрыта.
Он на костях готовил стадион,
чернил потом покорность обречённых,
и вымыслом, до жути извращённым,
нас "потчевал", не без успеха, Он...
За свой покой Мы предавали Их,
наивно думая укрыться за молчаньем.
Покой предательства
— той Нашей жизни штрих,
зовёт Нас всех, молчавших, к покаянью.
Их пепел должен Нам в сердца стучать,
А память не позволит вновь огню погаснуть.
Пусть для живущих, Нас,
Их муки не напрасны,
чтоб этот путь потом не повторять.
О, Бабий Яр! Остановитесь люди!
Здесь вечность расписалась на сердцах.
Август 1991 г.
Я могу отнестись с дружелюбием к каждому отдельному немцу, но до меня до сих пор слабо доходит нелепая “комсомольская” затея конца семидесятых: поезда дружбы из Лейпцига — "венерические" поезда из Лейпцига... Немецкие подростки — венерики и венерички, едущие на восток наказывать "Венерой" русских. Была версия, что подзаражали молодые немецкие самки себя специально для русских, совершенно точно зная, что у нас сие трипперное чудо лечится долго и малополезно, в то время как у себя они после трёх-четырёх таблеток тринидозола выходили из аута. Хваленая советская медицина только разевала в таких случаях рты, ибо не отправлять же целые составы дружбы в тюремную венбольницу на Чкалова, 21!.. За семь лет динамика вензаболеваний после приездов таких поездов дружбы изменялась по взрывной шкале... Здоровое поколение сексуально раскованных социалистических немцев определенно радовало...
Именно среди таких извечно венерических рабочих посёлков располагаются ныне новые еврейские кварталы в объединённой Германии... Их получила в дар от федерального правительства еврейская гемайра Германии. В одном из них под Берлином вот уже несколько лет живёт мой школьный коллега, прекрасный учитель математики Эдуард Юрьевич Березовский. Свой талант школьного учителя он сменил на швабру уборщика жилых помещений господ бюргеров, за что раз в году вместе с молодой женой-украинкой проводит на Майорке свой двухнедельный отпуск. Впрочем, это слабое утешение тем, кто и сегодня желает себе того же...
Айн, Цвай — вот вам Рай...
Драй, Фир — Чёрный Пир...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ СВЕЧА...
Мне рукой помахали из Рая.
Ну, а мне бы чего не ответить?
Я ведь точно заведомо знаю,
что из Рая кивали мне дети.
Могендовиды держат в ручонках,
просыпается в небе заря.
Солнцеблики рисуют Зайчонка. —
Это ваш мне привет, детворня?
Могендовиды выпали наземь
и ржавеют в невинной крови.
Вот такие-то, Господи, азы
есть в учебниках нашей земли.
Автор, “САМВАТАС на фу-фу”, весна 1996, № 16
Когда я уже написал две первые главы этой ксенофобической книги, то вдруг что-то задержало меня во времени... То ли подходил конец первой четверти, и в школьной круговерти все приходило в движение и порывалось на свободу через тернии менторского правопорядка.
В соответствии с этим правопорядком следовало дождаться возвращающуюся из Германии группу одиннадцатиклассников, преисполненных восторгами, и поговорить о тех, кто уже побывал в Германии прежде... Ведь школа чернобыльских детей может себе позволить роскошь иметь партнёров в западногерманском Мюнхене... Он так и остался теперь западногерманским, хотя двадцать третья статья конституции ФРГ услужливо сумеет доказать вам, что и Украина есть частица великой и неделимой, не перепаханной сталинскими трактористами Германии.
Не старайтесь доказать чернобыльским, да и просто киевским детям, что Германия — это блеф. Они точно знают, что Германия — это святой и ухоженный Рай, в котором их обязательно расселят по семьям и обязательно исполнят одну из (пальцев на руках не хватит)... Мечту о кроссовках фирмы "Adidas" или спортивного костюма “Bon jovi".
Обычно самые расторопные и хваткие умудряются забыть свои подранные кроссовки ещё в электричке Берлин-Мюнхен с тем, чтобы невольно обязать крайне радушных хозяев купить, прежде всего, именно эти как раз кроссовки: добротные, немецкие, новые... Хозяева же, крайне радушные по обязаловке, нет-нет да норовят вдруг показать когда живой до раскашливания, а когда и тихо-зловредный пресловутый немецкий характер. И не убеждайте меня в обратном... Не только норовят, но и показывают...
В современной Европе по-прежнему звучат Ариозы Матери. Ветхие и новые, великие и малые, разнообразные народы Европы по-прежнему не мирят между собой, по-прежнему убивая друг друга... В этой связи, что стоило бы только предположить, что и немцы привели себя сами к самой великой в своей истории и самой радостной для остальных, самой настоящей гражданской войне двух враждующих между собой, двух генетически неполноценных полунаций Германцев...
Ан нет... Германия снова едина. Нет власти у землян над проведением Господа Всемогущего, Господа Всепрощающего, Господа, дарующего мне мою махровую ненависть ко всем родившимся и не родившимся на Земле немцам. Живи я в Германии, я не смог бы не реагировать на слёзы немецких матерей, по любому вероятному для всех матерей поводу... Эти немецкие матери очень организованно и регулярно встречают у себя в Мюнхене наших киевских, а когда-то припятских подростков.
Сейчас эти дети на глазах планеты всей несут на себе память о размытом во времени ядерном крушении надежд всего нынешнего Человечества — прогрессивного и не очень. И немецкие матери регулярно открывают двери своих домов припятским детям. При этом они как бы вежливо говорят:
— Входите, будьте среди нас, битте-пожалуйста! Но, битте-пожалуйста, будьте по себе сами... Мы не пытаемся вам указывать, но вот изредка сказать и мы иногда сможем, и даже задать вопрос: Господа славяне, почему так вороваты ваши дети?..
Из каждой группы побывавших в Германии всегда или почти всегда гуманитарные немцы весело укажут пальцем на одного или двух воришек: этот потянул конфетку в супермаркете, а тот съел за завтраком лишний кусок колбасы... И где?! В Германии, где колбаса, по образному выражению одной крупной немецкой матери, тоже стоит... А сколько же стоит История со многими эшелонами украинского чернозёма с развешанными на чернобыльских соснах партизанами времён Второй мировой войны?.. Чернобыль Человечества начался не в 1986 году...
В году так 1991-м в Германию с группой припятчан приехали две девочки-сестрички. В экологически чистую, гуманитарную Германию — страну, изобретшую бутерброды. Так вот, бутерброды усовершенствовали славяне, положив на хлеб достаточно колбасы... А той колбасы, что кладут на бутерброды в Германии, нашим детям явно не хватало. И вот тогда старшая сестра, девушка девятнадцати лет, жившая прежде в двухсот метрах от ЧАЭС, положила себе на хлеб второй кусочек просвечивавшейся на свету колбасы. И тогда дородная немецкая мать, аккуратно прожевав свой бутерброд, сказала, как бы случайно:
— Оксана, колбаса в Германии тоже стоит... — последующие дни в Германии девушка голодала, как и неоднократно голодали в ней наши переводчики и учителя, замотавшиеся в хлопотах с детьми Украины...
Зато очень часто и бойко тормошили нашу неокрепшую умом пацанву уличные торговцы наркотой, юрко лопотавшие на языках-сателлитах — английском и русском...
— Всего девять марок за драп!.. Молодежь выбирает драп!.. Взбодритесь, друзья... Германия выбирает бодрых...
— Да пошёл ты...
— Я бы пошёл, да за подачкой прибыли вы к нам, в Германию. А у нас вся страна в упаковках...
— Вот и ты, гад синтетический в упаковке гримасной... Германский шампиньон!..
У вербальной агрессии свои законы. Один слово скажет, другой два подвернёт... Один вспомнит немецкую мать, второй отойдет в сторону и пойдет в нарочито подранных джинсах с легким заплечным ранцем.
Для него весь мир — это его Мюнхен с модерновыми механическими пианино на театральных подмостках улиц и площадей. Море крытых бассейнов, море навсегда зачехлённых душ, которые внутри себя все время стараются разобраться в своём немецком менталитете...
Курчавые, высокие, с широко посаженными глазами. Волосы — смоль, огненно-рыжие и льняные... Лица молодых девушек в алкогольных отеках любопытно-нецеломудренные, нацеленные на то, чтобы чего-нибудь взять у жизни, у подаренной им гуманным Человечеством жизни: сытой и плотоядной...
Признан Человечеством в конце-то концов неутомимый германский гений, и спешить больше некуда. Знай, прожигай своё время в бистро и гаштетах, ныряй в бассейны с подогретой водой, будь энергетическим сгустком и верноподданным европейского дома. Дома, где за каждого убитого во Второй мировой войне Германия уже заплатила... Какие-то мифические, так и не дошедшие до простых украинцев деньги... Ведь что проще — сначала убить человека, а после оплатить удовольствие и право свое убивать. Во имя Великой Германии и бесноватого фюрера...
Господи, зачем ты взбиваешь коктейль из белковых тел и вселяешь в него разум? Не тебе ли угодно то и дело затмевать разум немецкой части Земного Человечества, и превращать его в орудие для убийства миллионов таких же божественных коктейлей?..
Если генетически верно то, что даже росток растения пробивает асфальт, то верно и то, что и росток агрессивен. Да, росток растения пробивает асфальт и яро сражается за место под солнцем, но он не способен орать до осипу: "Германия превыше всего!", и оплодотворяться затем от сперматозоидов победителей. Просто немцам надлежит искать место для своего произрастания в Космосе... В далёком холодном Космосе, ибо Земля по-настоящему давно уже им мала, даже с украденным украинским чернозёмом и съеденными кислотными дождями аккуратнейшими лесами, где более уже нет прежних любителей королевской охоты.
Отошла в прошлое оккупация Германии, но не отходит ненависть, не отпускает от себя и на третьем послевоенном поколении... Я учитель четвертого, послевоенного, поколения. Прежде я очень любил говорить правду. Но эта правда разъединяла меня не только со своими учениками, но и со своими близкими, ранила каждого невпопад, калечила близкие мне души. Как видно, у правды только одна сторона медали, и та, как очевидно, в шипах.
Немецкие дантисты вот уже третий год ввозят в Киев для живущих в нем припятчан прекрасную зубную пасту. Она, по замыслу немецких врачей-дантистов, должна спасать детские рты от радиационного кариеса. Но если у меня давно уже развился кариес души, то каким образом сцементировать его кровавые каверны, дамы и господа?!.. У меня давно уже повышен душевный кислотно-щелочной баланс, а во ржавых душевных кавернах до сих пор работают песочные часы ненависти...
Чернобыльских детей угробила советская система, еврейских — германский фашизм. Чернобыльскими детьми пекутся уже целое десятилетие немцы. Майданеки, Освенцимы и Бабий Яр остались на земле на столетия... Как нам сегодня отыскать точку отсчета между Добром и Злом? И не разрыдаться ли всем нам вместе: жертвам и палачам, и покаяться в совместно содеянном?..
Палача провоцируют жертвы... Жертвенность спасает и ведёт Человечество во Вселенной... А палачество?.. И в чем оно сегодня, господа немцы?.. Не в том ли, что мне вас не то что судить, а просто видеть невыносимо?
А вы всё едете и едете в школу для детей, эвакуированных из эпицентра аварии на ЧАЭС города Припять, и побуждаете говорить Вам спасибо... Не дождетесь! Что вам все эти поездки и подачки маленькой группе людей, а возможно, и модели всего израненного взаимной ненавистью Человечества?
Что вам все это, как не спектакль Вашей жертвенности, развивающееся видимое благополучие одной киевской школы на фоне остальных украинских, из которых по-прежнему уходят учителя? Стрекочут сплошь нафаршированные электроникой ваши пластиковые видеокамеры, дублируются по всей Германии такие же пластиковые видеоклипы о вашей великой и едва не повседневной жертвенности, а мне так и хочется, как и Альберту Эйнштейну прежде, откровенно высунуть и показать вам язык... Потомки кровавых палачей Человечества не имеют права на жертвенность!.. Не имеют!
Тридцать один человек из моего великого древнего рода навсегда остался в Бабьем Яру, как и тот профессор по классу скрипки... Вы его ещё не забыли? Неужели вы платите за его смерть другим? Тем, кого приглашаете к себе на жительство, и какое они имеют моральное право принимать это как должное, живя безбедно и сыто на той земле, где в еврейских погромах оттачивалась в немцах звериная ненависть ко всему Человечеству...
Вы сегодня пришли помочь чернобыльским Ваням и Алёшкам, а полуразложившиеся трупики расстрелянных в Бабьем Яру Ицыков, Ростиков и Ребекк сжигались вами едва ли не целый год с конца сорок второго до почти самого освобождения Киева, в конце сорок третьего года. Часто ли вы посещаете Бабий Яр, господа гуманитарные немцы?
Хоть и увидеть там кроме обелисков — безликого помпезного советского из красного гранита и скорбного еврейского — меноры из серого мрамора более нечего... Нет, во времена генерального секретаря Никиты Сергеевича там чуть было не воздвигли величественный Дворец спорта. Но это была уже наша, а не ваша боль. Своё-то вы уже сделали во времена Второй мировой бойни.
Ицык, как тебе там на Небесах, и кому ещё за тебя Б-г подарит мягкую детскую игрушку и кожаную куртку? Слава Б-гу, что не из твоей кожи. Простите и поймите меня, мои ученики, но вас угробила наша уродливая псевдокоммунистическая система... Разрушая, система объединила Германию, и та с благодарностью стала отплачивать долги советской системы, не оплатив своих собственных. Но только как оплатить ваш страшный нечеловеческий Долг? Подскажите мне сами, немцы, штудирующие древнюю Книгу, и найдите для себя в ней страницы проклятия и покаяния... А я Вас буду слепо ненавидеть, как ненавидел прежде.
Завершу эту главу так и неопубликованными стихами: “Подарок чернобыльским детям от немецких детей”, которые в самый разгар немецкой благотворительности начала девяностых годов сочинил я сам.
— Мама, а это правда, что в Германии
растут шоколадные пальмы?
— Правда, доченька, правда.
Спи, дитятко, спи...
— Мама, а это верно, что в Германии
дети едят с шоколадом пудинг и манную кашу?
— Верно. Они там пахнут чистым густым шоколадом.
Но нам что с тобою до этого?
Усни, детка, усни!..
— Мама, а мне рассказывал дедушка,
что однажды германские дети съели еврейских детей
с медными могендовидами, прямо из Бабьего Яра.
Вроде не людоеды, как же посмели они?
— Мама, мне страшно от их шоколадных улыбок,
от их баварского пива, от их сопереживаний.
Они и чернобыльским детям
привозят игрушки милые —
дань за еврейских детей,
что съедены были ранее...
— Мама, мне снятся косточки,
хрупких детей кровинушки.
Кто заплатит им, Господи,
кто замолит их смерть?!.
Во всешоколадном зареве
немцы смеются весело —
нынче детей им хочется
под шоколадом есть!..
Гурманы, снобисты, бюргеры —
они мечтают о мире.
Грустно и очень тихо
челюсти их жуют,
перемалывая во рту с коронками
шоколадных детей...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ЧЕТВЁРТАЯ СВЕЧА.
Воюющие нации обречены на заражение друг друга собой...
Уверенный в том автор.
А почему вдруг только что родившийся младенец должен испытывать муки совести? Впрочем, иной младенец испытывает их уже только потому, что в виде особого чисто житейского дискомфорта эти муки передает ему мать... Порой в дальнейшем они и формируют иную человеческую особь со сбитым и не способным на какие-нибудь духовные потуги тонусом.
Чем вам не яркий образчик послевоенного немца? Он уже не ариец, но ему же никогда и не стать более Людвигом Ван Бетховеном. Преодолев физическую глухоту, Бетховен стал музыкальным гением Человечества...
А вы, дети рядовых палачей из Освенцима и пулёметчиков из Бабьего Яра, — кем стали вы? Оказались ли вы способны преодолеть в себе постоянную страшную духовную глухоту и обратить самих себя в человека?.. Ведь и мне толком понятно, что одной только ненавистью не ублажить не в меру рафинированное Человечество...
Если бы вдруг за ошибки и преступления немецкой нации до сих пор расстреливать регулярно и ежедневно по пятьдесят немцев, то было бы интересно узнать, многие ли немцы захотели бы пойти до конца и записать в своём паспорте, в графе национальности: “немец”. Те, кто записал бы так, и были бы по-моему настоящими, а не синтетическими немцами. Их бы я и простил, но немедленно выслал бы на Марс, которому покуда не хватает и своих яблонь, и своих немцев, и своих уничтоженных за бесчисленные тысячелетия Европ...
Сегодня с Марса на нас взирают одинокие сфинксы, а по земле по-прежнему бродят совершенно неприкаянные немцы, не прожившие мирно на земле ни разу семь поколений всегерманского покаяния.
Во имя и ради одного лишь покаяния, господа немцы, стройте поживей звездолёты и уматывайте с залитой Вами невинной кровью Земли. И пусть только вам доверит уставшее от вас Человечество тысячелетние войны с молчаливыми марсианскими сфинксами. И если вы окончательно не сойдете с ума перед жертвами Вечности, то Бог Вас простит...
Амен-код-Амен! Заклинаю вас, воинственные Дети Галактики, проклятые во Вселенной... Ибо не делать же из вас компост, из израненных укорами совести маленьких человеческих комочков, ещё на стадии эмбрионального развития! Уж лучше быть вам в звёздных корсарах и якшаться с такими же, как вы, межзвёздными песиголовцами. У Человечества Новые поколения формируются и фаршируются очень быстро, под любым мыслимым соусом. Человечество к этому, впрочем, уже привыкло...
Убеждения отдельного человека не являются убеждениями всей нации. А письма в их индивидуальном эпистолярном порядке — милейшее дело и даже душевный громоотвод... В письмах способна отразиться существующая эпоха, но отменить эпохи они не могут. Но даже писем не писали узники Майданеков и Освенцимов: просто писать им было уже, собственно, некому. Ведь нельзя же написать своё хотя бы прощальное письмо тёмным жировым пятнам, оседающим на продольно-полосатые робы узников, чьи близкие уже превратились в дым, идущий из труб крематориев и уходящий буро-серою паклей в новозаветную вечность. В Вечность бесконечных и вечно живых проклятий: "Будь прокляты немцы!..".
МИР 1992 ГОДА ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИЦЫ
11-го класса Заниной Оксаны:
"Киев, 5 ноября 1992 года. Здравствуйте, дорогая семья Рилл! Пишет Вам снова украинская девушка Оксана. Письмо Ваше получила 31 октября 1992 года. Написать получилось только сегодня. Сразу хочу Вас поблагодарить за Ваше доброе письмо. Я была очень рада его получить, спасибо Вам большое...
Дорогая Анна-Мария, можно я буду так Вас называть? (Ваше имя так звучит по-русски). Я думаю, что, несмотря на нашу разницу в возрасте, мы с Вами подружимся. Большое спасибо Вам за Ваш подарок, но мне было несколько неудобно его принять...
С радостью пишу Вам ответ. Хочу немного рассказать о себе. Я, как уже писала, закончила в 1992 году школу; мне семнадцать лет, и я теперь учусь в киевском педагогическом университете, на историческом отделении. Занимаюсь спортом и туризмом. Ещё я очень люблю работать на компьютере. Я часто хожу в свою школу, где я раньше училась, там есть компьютеры, и иногда я с ними работаю. Вот и сейчас, сижу и печатаю Вам письмо...
Вы спрашивали о положении на Украине? Немного напишу. Плохо, очень плохо. Безработица и постоянная инфляция. Очень высокие цены на продукты питания и одежду; жилье тоже очень дорогое, низкая заработная плата. Жить так, конечно, невозможно. На каникулах моя подруга и я хотели бы поехать в Германию заработать немного, ведь у неё уже большая семья, и, конечно же, не хватает. И я хотела бы попросить Вас, если это, конечно, удобно и не трудно для Вас, сделать нам вызов или приглашение (я не знаю, как у Вас это называется), чтобы нам открыли визу в Вашу страну.
Мы согласны на любую работу, в кафе, столовой, где угодно, если это, конечно, возможно и удобно для Вас. Если это невозможно, то напишите, я, конечно же, пойму и не обижусь. Мне очень неудобно просить Вас об этом, и прошу извинить меня за мою нескромную просьбу, но, я думаю, вы нас поймете. Мне очень хотелось бы побольше узнать о Вашей семье, напишите, пожалуйста. Анна-Мария, а чем Вы любите ещё заниматься, кроме работы? Я люблю шить, вязать, немного играю на гитаре. Напишите побольше о себе, я буду очень рада...
На этом заканчиваю своё письмо. До свидания! С тёплым приветом к Вам и Вашей семье! Пишите скорее ответ, я буду очень знать... Целую Вас, Анна-Мария!
Оксана".
Исповедальные строки... В жизни писателя их было много. Писали поверившие мне люди. Люди, которых я вовлек в эпистолярную деятельность в связи с выпуском самиздатовской газеты "ЛИТ-ХИТ" во второй половине 1992 года. Семнадцать выпусков этой газеты стали явлением в общественно-поэтическом мире Киева, и о газете ещё долго говорили на тусовках и в прессе. Говорили, как всегда, о поэзии, но договаривали о самом больном. Со временем оказалось, что большинство из писавших перешли либо в разряд профессиональных поэтов, либо оказались объектами внимания психиатрии. По крайней мере, трое из них прошли через совковые и постсовковые психушки... Исповедальные строчки одного такого человека пусть оживут перед вами, дамы и господа!
“Здравствуй Веле, добрый друг. Меня, Веле, приглашают сниматься в передаче "Гарт" и записаться на радио в передаче "Колос". Володя Тыщик меня уже однажды записывал. Получил я твоё письмо с Исповедью. Подружился я соседкой Валей с улицы Полярной, 7. Она передала мне домой яблоки. Читает мои стихи и песни про меня и "Вечерку". Я в прошлом давал им там, в "ВК" славный концерт, да ещё дал от себя на выживание газеты целую сотню рублей. Как-то они меня сами "накликали", а к тому же сняли в газету мою мордяху. Потом я им там на девятом этаже так играл, что дом чуть не рухнул, но Троещина устояла. Вот такой я пародист, артист и аферист, экспериментатор и реформатор Гусейн Гусли”.
“Добрый день, Господин Веле Николаевич. Дуже, или барзо Вас дзянькую. Спасибо Вам за письмо с поэзией. Я сам пишу, но не стихи, а песни и музыку. Конечно бывает и пародирую. Высоцкий тоже был пародист. Я делал мини-концерт в Германском посольстве, на Чкалова, 84, и они даже подарили мне эстрадную губную гармонь. Хотел меня пригласить и Зайченко — главный режиссер цирка, но пока что не звонит. Пригласил меня (жду звонка) и главный режиссер телепрограммы "Гарт" Владислав. Но сейчас у меня нет той германской губной гармошки. Она оказалась дешёвой штамповкой и приказала всем нам долго и весело жить. Так что сейчас я уже не человек-оркестр в белом концертном фраке, а обыкновенный банкрот. Приехали с загранки студенты из циркового училища. Теперь вся надежда на них. Может быть, они привезли мне губ-гармонь почище той, что была германская. Помню, когда-то трофейные были ещё ничего. А сейчас — что говорить... На сцене в этом году я не выступал. Но выступал на радио, в программе "Колос", у главного режиссера Володи Тыщика. Сам он пишет только музыку, а мои песни не пропускает. Скоро должен выйти на малый экран фильм "Оружие Зевса", 5 серия. Снимался я и в развлекательной программе Укртелефильма. Зато про меня пишут стихи прохожие... И это радует. Труба признает человек-оркестра за своего”.
“Веле Николаевич, здравствуйте. Мне нужен консультант, который скажет или напишет, в какой стране я живу. Укранида — у края царства тьмы Аида, где пачка сигарет стоит 250 купонов, что это за страна такая — обвороловка...”
“Гутен таг, Коморайдышин Пан Штирлиц, Зи форзейн, их ист дойчлен. Я три года прожил в Германии. Я люблю страну Дойчланд. Мне очень понравилось Ваше письмо. Я с творческими персонажами не дружу, кроме Сашки Барыкина и из Киева Гриша Махно из ансамбля (цыгане). Я десять лет живу один, все поумирали, и ко мне домой никто не заходит. Я дверь никому не открываю, мне пьяницы не нужны. Я — человек Музы... С Татарченко Леней я написал песню про Украину, но композитором был Татарченко, хотя я музыку написал лучше, и она звучала на радио, а исполняли эту песню бандуристы из ансамбля "Думка". А ещё я и голос имею, правда, я не Хворостовский... Моя святая задача — бросить курить. У меня в семье не было артистов, а в армии я плясал чечётку, и дома у меня есть спец-туфли, и ещё я жонглёр. Подкидываю булавы, мячики. Вы когда-нибудь прийдите ко мне с женой и детишками в гости, чтобы Вы увидели, кто я такой, чем и как я живу — духовной и творческой жизнью. Ваш покорный слуга Гусейн Гуслия.”
“Веле, Веле Николаевич, чтобы ты знал кто я такой-сякой, то я родился в Киеве в 1931 году. Мне 61 год, но выгляжу я на 45 лет, я дважды мастер спорта по боксу и плаванию, живу один, мама умерла в восемьдесят два года, а с женой я разошелся. Я тогда был пахарь, а не артист. А она занимала как член КПСС большой пост. Но я дружу с одной маланкой уже четыре года. Она из города Прилуки, и раз в неделю она ко мне приезжает. Она очень порядочный человек, но музыку мою не любит... От этого тяжело... Сегодня среда, 23 сентября, я получил твои стихи, и посылаю тебе только свои. Какие есть... Только их я и пишу... Завтра, двадцать четвертого, я иду сниматься на "Гарт", но не в прямом эфире. Пригласил меня Владислав Криворучка — главный режиссер студии "Гарт". Его телефон: 228-83-80. Я, как видно, являюсь изюминкой музыкальной городской жизни. Я очень люблю сладкое: чай, торты и... пиво с голландским сыром. Это меня утешает”.
“Здравствуйте, коморандышей Веле, зи форзейн их нет дойчланд, и ещё Китаёзя. Веле, я дружу с Линой-маланкой уже целых четыре года. Живёт она в городе Прилуки, приезжает ко мне два раза в месяц. Но моё искусство она не любит. Веле, я хочу написать брошюрку — историю своей жизни, но мне в "Вечерке" отказали. Я 1931 года рождения. В 1937 году арестовали отца и посадили на пять лет, а нас выслали на Север. Приехать разрешили только в 1941 году. Жили на Мельника, пришли фашисты. Я бегал смотреть с Европейского кладбища, как стреляли евреев, но одну девочку-еврейку я спас. Потом нас забрали в Германию, в рабство, на три года: меня, мать и сестру с 1925 года рождения. Когда наши сдали Киев, а я жил напротив тюрьмы, и я увидел там расстрелянных... Мы там, будучи детьми, шмотки брали. Не мародёрничали, а от жуткой нищеты. В Германии меня расстреляли, но я чудом спасся. Я выпустил военнопленных, перекусив проволоку кусачками, и за это попал на год в лагерь Альтенгратов. В армии служил в Советской Гавани, водолазом-десантником. Плясал в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского Флота, я чечёточник. Потом я в 1961 году женился в Ялте, она переехала ко мне в Киев. Она на 11 лет была моложе меня, но жизнь повернулась иначе. Меня хотели посадить по 58 статье, но посадили по 117, за изнасилование. Я отсидел 10 лет, но три года мне сняли, но не реабилитировали. Вот такие-то дела, мама в мае родила, несчастливый месяц май, сам ложишься, сам вставай... Сегодня, 28 сентября, я поменял свой кассетник на две губ-гармошки. Это для моего номера Человек-оркестр. Завтра 29 сентября, я буду на белом коне, меня будут снимать на телевидении. С 8 по 10 октября смотри меня по телевизору в передаче "Гарт". Снимался на Прорезной. Я получил ещё твои стихи. Дуже дякую, но не ламакою...”
“Гутен таг, Веле, зи их ферзейн, но я не люблю писать письма, даже Женщинам, но сегодня я отправил письмо в посольство ФРГ, ул. Чкалова, 84. Они меня любят. Сегодня я купил две губные гармошки высшего класса за 2000 рупий. Переписываться на "Гарт" с новыми гармошками я не хочу. Я там записал свои песни, а музыка в них, как в сказке... И я поклоны перед ними не бью. Я себя люблю и уважаю как Человека, как Поэта-песенника и как композитора. Ко мне домой никто не заходит. Разве что беру коньяк раз в месяц и пью его с кофе. Я люблю кофе выпить раз в неделю, а чай ежедневно. И каждый день уже с шести утра занимаюсь музыкой, это моё хобби. Одни занимаются наркоманией, другие — пьянством, третьи — сексом... Кому что Бог на душу положит, а я музыкой... К тому же по утрам я занялся бегом, но что греха таить, сегодня я выпил рюмочку коньяка с крепким чаем. Да, я наркоман, но только от Муз, и Муза моя в моих генах... Я навсегда останусь танцором, чечёточником, баянистом, аккордеонистом, аферистом — пародистом, человеком изредка "льющим за воротник" этак по 150 грамм доброго коньяка. Остаюсь с друзьями, Гусейн Гуслия..."
...Гусейн Гуслия навсегда остался жертвой германского фашизма. Догробила его система, полусумасшедшего юношу с отдельной квартирой в послевоенном разрушенном Киеве. Иное дело, какие встретились женщины, какие нравились ему, и какие не нравились цвета радуги, какие мелодии он играл в киевской Трубе...
Но и его, как и моего малолетнего отца сопроводили в Германию чёрные овчарки и чёрные мундиры, и он стал просто уличным скоморохом и сумасшедшим, а не профессором киевской консерватории по классу скрипки вместо расстрелянного в Бабьем Яру профессора, игравшего обреченным свадебные мелодии Мендельсона.
Вам не страшно, господа немецкие эстеты, наследники Бетховена и Вагнера, Глюка и Шуберта... И вас наказала История. Нет среди вас музыкальных гениев, и, даст Бог, не будет, как бы вы не старались, ибо деды ваши фашисты, варвары, берсеки двадцатого века. И за это я вас ненавижу. Но к вам обращают свои неокрепшие души удивительные голоса славянских подростков-девочек. А этих девочек среди прочих учителей учу и я, прошедший через ненависть к вам. Запомните это. Я вас не простил. Не простят и они... Наша общая ненависть доказательна, дамы и господа...
"Дорогая Silke! Я получила твоё письмо, за которое большое спасибо. Я очень рада за тебя, что ты хорошо провела свои каникулы. Твоё письмо получила 20. 10. 95г. и сразу же пишу ответ. Дела у меня идут классно. Хожу в школу и езжу на подготовительные курсы в институт. В свободное время играю и печатаю на компьютере. Ты знаешь, я разделяю твой вкус в музыке и слушаю такую же музыку. До недавнего времени жизнь моя была однообразной и скучноватой, но недавно произошло нечто такое, что изменило мою жизнь. Я приобрела цель в жизни.
Три месяца назад меня пригласили посетить собрание Церкви Христа. Там я узнала истину о жизни, о людях и о Боге. Ты знаешь, я приобрела много друзей: людей, которых я люблю и которые меня любят. Я узнала очень много о моей жизни и задумалась о многих своих поступках, которые я совершала изо дня в день. И я решила это изменить.
Как трудно было жить, создавая свой внутренний мир, и не замечая и не обращая внимания на то, что уже создано задолго до нас. Я поняла, что мне предлагается самое дорогое, что может быть у человека, — спасение и вечная жизнь с Богом. Я не хочу в конце моей жизни понять, что я иду в ад, потому что тогда у меня не будет времени что-либо исправить. Мне не будет оправдания.
Я очень рада, что могу с тобой переписываться, и хочу узнать о тебе побольше. Расскажи мне немного больше о себе. Как ты относишься к Церкви? У тебя есть отношения с Богом? Ты читала когда-нибудь Библию?..
Я ещё хочу тебе рассказать о том, что на уроках информатики я печатаю книгу, которую пишет учитель информатики. Довольно забавная книга. Также я печатаю стихи и разные интервью с нашей поэтической элитой, так что оказываюсь в курсе всех новостей. Напиши, какие у тебя друзья и чем ты занимаешься. На этом я заканчиваю своё письмо. Передавай привет своим родителям, сестре и брату. Пиши, буду ждать от тебя ответ. До свидания! Твоя подруга Таня.
22. 10.1995 г."
На этом детском письме, отрицающем или почти отрицающем всю мою прежнюю ненависть, можно бы было смело поставить точку, но... Что-то вдруг остановило и подхлестнуло меня: в одном миру, в одном компьютерном классе, за одним компьютером пишутся слова Любви и Надежды, ненависти и ксенофобии... Что же имеет право на победу? И что в конце концов победит? Не праздный вопрос, полный горечи и тревоги... И здесь мне помогли старые школьные сочинения выпускниц 1992 года, которые и сегодня, как по-моему, не потеряли своей актуальности:
Из школьного сочинения одинадцатиклассницы В***** Оксаны: “Легко ли быть взрослеющим Богом”.
"Земля — ПЛАНЕТА взрослеющих Богов. Но если ЭТО только и так, то слишком много на ней страданий приходится пережить... На нашей планете за последние годы у людей обострился инстинкт самообороны. Защищаться теперь нужно от всего: от природных воздействий, от массовых военных действий и даже от случайных уличных убийств, от повседневного жестокосердия... Конечно, немного сейчас найдётся девушек, которые могли бы воспитать детей, так как этого требует время. Не много добрых, честных, с открытой душой, полных чистоты и любви. Но есть и такие. это зерно не должно погибнуть в грязи нашей мерзости. Даже если такая девушка из многих тысяч одна..."
Из школьного сочинения одинадцатиклассницы В****** Эллины: “Сейчас доброта не в моде”.
“В нашем прежде гуманном обществе доброта не в моде. Нас окружают злоба, зависть, грубость, через которые мы не можем пробраться... Из-за небольших неприятностей люди становятся агрессивными, передавая своё состояние другим. Они настолько огрубели, что когда им скажешь доброе слово, они посмотрят на тебя как на сумасшедшего, который лезет в душу с дурными вопросами и расспросами. И чтобы пробиться через эту гадость к добру, нежности и чуткости, людям нужно быть бдительными и непреклонными, потому что без этих качеств в нашем обществе не проживёшь. Им нужно любить и делать добро, так как добро и любовь — главный противовес насилию и злу. Главный противовес глобальной человеческой ненависти...”
Из школьного сочинения одинадцатиклассницы З******* Дианы: “Трудно ли быть женщиной в наше время?”
“Доброта, чуткость, женственность, сострадание, внимание, уступчивость — основные качества, которыми должна обладать женщина. Злость, иногда жестокость, хищничество, дерзость, выносливость, неумение держать себя в руках — черты, которые присущи нам, женщинам, сегодня... Тех, кто смог сохранить своё собственное лицо, своё истинное достоинство, очень мало. Женщина — создание хрупкое. Она требует к себе внимания близких людей, любви, уважения, ласки. Трудное, невероятно жестокое время превратило женщину в выносливую лошадь, хищницу, добытчицу. Ей не достает душевной теплоты, чистых, неоскорблённых чувств..."
Людмила Власенко — вчерашняя выпускница. Её родина — город Припять... Город-Призрак...
“Мы живем в 92 году ХХ века, а через десять лет будет уже 2002 год и, если подсчитать, мне будет двадцать шесть лет. Это всё ужасно интересно, конечно, каким он будет этот ХХI век? Сейчас ужасное время и нравы... Если сопоставить все происходящие в наше время события со Священными писаниями, то можно сказать, что все понемногу сбывается, но это ещё "цветочки". Это лишь малая толика всех предсказаний... Я хочу сказать, что я христианка. Когда я была маленькой, бабушка учила меня молиться, креститься и рассказывала мне о том, что ждет нас в будущем по прочитанному Евангелию, вот я и сравниваю. Всем известно, что конец света намечается на 2000 год, а этот период обозначен событиями куда более страшными, чем сейчас и, поскольку я во все это верю, то от будущего я ничего хорошего не жду, хотя и люблю помечтать о том, какой я буду хотя бы через два года. Из всего мною написанного следует одно: "Не скачи поперед батька в пекло", — что будет, то и будет. Я не могу ясно и определенно сказать одно — то, что мир лучше не станет, ведь если хорошо подумать, то не может быть хорошего без плохого, но только тогда плохо хорошо, если оно временно... Вы меня не поняли? Приведу примеры из собственной жизни. Я жила, как и все, у себя дома, на родине, в Припяти, и не ощущалось счастья оттого, что живу там, где родилась, но случилось огромное, непоправимое горе, и я покинула родные места, теперь я тоскую по ним, мое сердце рвётся на части, но все ушло и ничего уже не вернётся, и остались одни лишь воспоминания и горький осадок на душе. Вот что значит настоящее горе, горе на всю жизнь. От жизни я жду лишь Счастья и Любви, большой и искренней, это моя единственная Надежда! Власенко Люда, 11-В класса, 1992 год”.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПЯТАЯ СВЕЧА.
Посмотри, какая радость — во дворе весна!
На горе за нашим домом вишня расцвела...
Ты с другим, и я с другой, только надо жить,
чтобы ни было с тобою — прошлым дорожить...
Болгарский городской романс, перевод автора
Когда люди теряют все, им остается одна только ненависть ввиду всех прочих потерь... Единый и страшный эквивалент не состоявшегося, не востребованного... Ненависть же может возникать и тогда, когда не остаётся Надежды... Существуют в мире не одна, а, как минимум, две ненависти — это ненависть жертвы и ненависть палача. Её, эту страшную ненависть палача, я бы и стал называть палачеством. Палачество является порождением животной зависти. Именно палачество прежде всего и следует на Земле истреблять... Но почему бы всем нам не разобраться, а куда способна привести нас любая ненависть...
ПРИТЧА ОБ ИУДИНОМ ДЕРЕВЕ.
О судьбе этого дерева однажды узнал весь мир. Это была сосна. Росла эта сосна в двухсот метрах от чернобыльского четвертого блока: большая, развесистая, страшная. Во времена Второй мировой на её полных сил ветках оккупанты вешали партизан — регулярно, со знанием дела, в назидание живым...
Сначала число повешенных было равным шести, затем — восьми, а затем, в конце оккупации, число повешенных дошло до девятнадцати. На этом страшном дереве вешали старых и молодых, стариков и юных — девушек и пацанов. Говорить на языке абсолютных категорий всегда сложно, особенно, когда дело касается повешенных. Только при расстрелах и повешениях за годы оккупации Киевская область потеряла 239 000 человек мирного населения. Они не были ни евреями, ни военнопленными. Что против всех их девятнадцать невинноказненных на той страшной чернобыльской сосне?..
Затем наступило возмездие. На той же сосне вешали оккупантов, не одного и не двух. Затем прошли годы и пришли строители. Возле Иудиной сосны поднялся роковой Четвертый блок ядерной станции, а рядом с ними двумя страшными — сосной и блоком, поднялось около тысячи молодых деревьев. Они выросли так же прозаично, как в свое время вырастали на сосне повешенные люди — жертвы и палачи: шесть, восемь, девятнадцать, тысяча... Наконец-то, вы поняли код этих чисел — 1986 год. Это не было мистикой, этот год предрекло время.
Иудино дерево. Остальные деревья не выжили: шесть, восемь, девятнадцать, тысяча — высохли в самые первые дни ядерной Катастрофы. А Иудино — долго болело и кашляло, впитывало в себя радиозоли, адовый коктейль: со стронция и иридия... Под Иудино дерево беззлобно мочились ликвидаторы, которых, сегодня с нами уже больше нет. Шесть, восемь, девятнадцать, если верить официальной прессе, то тридцать два, а если не верить... Тысячи. Цифры вещие... Не из разряда мистики... Свидетели помнят: эта проклятая Богом и людьми сосна с пожелтевшими от радиации иглами простояла еще долгих семь лет, отфиксировав собой Иудино время. В эти годы нам врали, что радиации нет.
Сосна упала ночью, со скрипом надломленная порывом северного ветра, не за миг, а за несколько мгновений: шесть, восемь, девятнадцать. На Земле, испепелив себя, замкнулся еще один порочный круг ненависти. Её грузную и большую обвязали, как гроб, анкерными узлами из металлических тросов, и отволокли в неведомый Человечеству могильник. Один из шести, восьми, девятнадцати проклятой навсегда для Человечества Зоны.
И сегодня рождаются на Земле сосны. Человечеству сосны необходимы: шесть, восемь, девятнадцать, тысячи. Обструженные сосновые доски, окрашенные половой краской, без крепа — это гробы для нищих стариков Украины. Быть может пройдет шесть, восемь, девятнадцать лет и номинальных упреков, таких вот, как высказаны Иудиной сосне, высказывать станет некому — всеобщая ненависть испепелит и людей, и сосны. Я прав шесть, восемь, девятнадцать и тысячу раз, когда сегодня начинаю думать, что от ненависти надо уходить.
Я прочитал первые четыре главы учителю немецкого языка, немцу по национальности, и увидел его глаза, а затем он задал вопрос:
"Неужели все мы — люди, так вот и навсегда будем ходить по порочному и замкнутому кругу, шесть, восемь, девятнадцать, бездну раз, испепеляя ненавистью самих себя — Человечество?.."
Бог не придумал шесть, восемь, и так далее Человечеств. Перед лицом Космоса, перед лицом придуманного человечеством Бога — Человечество на Земле одно... Шесть, восемь, девятнадцать?.. Не повторить!.. Вот, собственно и вся притча.
Из письма к Воронежскому издателю Вадиму Кисляку:
"Кроме избытка теперь уже добрых чувств и издательских Вам прав на ближайшие девять месяцев, ибо родится книга, мне больше добавить нечего... Хотелось бы как-нибудь в чем-нибудь перекинуться друг с другом о личном. Но существует литература... С сутью этого произведения можно не соглашаться, но правдивости этого произведения следует доверять... Это произведение имеет свойство пружины. Судить ни по одной, ни по двум главам еще не достаточно. Крайне недостаточно. Утверждаю, как автор. Естественный побудительный мотив всякой ненависти — одна только ненависть... Ни один человек не может быть Ангелом, уничтожая, хотя бы словесно, другого... Пусть же заговорят к делу причастные, и постараются найти общий язык свидетели и очевидцы, а прочие пусть только выслушают то, что так спорно и разно... Экология человеческих душ... В чём она Господи!.. Или Человеческая душа — это что же?.. Божье недоразумение?.. Наказание?!. Важно даже не отдельное литературное произведение. Важен сам факт присутствия в мире данного конкретного автора. Ибо... Он собиратель мифов... А... Мифы рождаются там, где совершались поступки. Остаётся только надеяться, что через девять месяцев мир узнает еще об одной точке зрения на еще один больной вопрос Человечества.
С уважением, автор".
Что сильнее — ненависть или память? И правомерно ли так поставить вопрос... Кто-то скажет память. Я же стану утверждать, что ненависть... Ненависть в порах Человечества, и пора говорить о Третьем виде ненависти — не о ненависти жертвы, не о ненависти палача, а о ненависти тех, кто на стороне жертв уже произошедшего в мире палачества...
В газету еврейских обществ Украины " Хадашот" я позвонил с утра пятого ноября 1995 года. Позвонил предупредить, что к десятилетию Чернобыльской катастрофы вышлю им "Притчу об Иудином дереве". Затем было письмо и случайная комбинация цифр 777, попавшая мне на глаза на страницы моего дневника.
Знак жертвенности... Знак убийства фанатиками Индиры Ганди. И этот знак в моем, казалось бы, дневнике. Увы, он оказался вещим. Сегодня же был убит Ицхак Рабин. Убит студентом-евреем правоведом на стадионе... Ицхак Рабин убит был по праву ненависти... Мне передалось событие преисполненное ненависти. Ибо писал я о ненависти, а она ни на минуту не уходила с нашего мира. Мира извечной ненависти... Мир пуху твоих волос и светлая память тебе, Ицхак: воину, политику, человеку...
Мир, где еврей убивает еврея, близок к безумию. Это мир Катастрофы... Новой Катастрофы. Грядущего. Это, увы, не сказки ненависти. Это пророчество. Пусть бы все, Господи, было не так. Пусть бы все, Господи, было. Пусть бы возобладала Любовь. Ибо растут наши дети, наши, Господи, дети, земные и разные, евреи и немцы, русские, украинцы, поляки... Кого еще бы назвать... Всех, Господи, всех... Всех и назову во имя предотвращения катастроф...
Полоса красных, розовых, каких-то фиолетовых дат. Целый воз бесполезных праздников, оставленных Системой. Но уж лучше праздники, чем революции... Хамко и Данко, Подленко и Хоменко не тащат за собой ротные пулеметы и уже, слава Богу... В критические дни истории народ следует заливать водкой и задаривать сторублевыми ассигнациями. И, авось, минётся...
Иногда Время взрыхляется в комки и плывет над миром беспокойными бурыми пятнами, которым на веку отдельных людей уже так и не рассосаться. Следовало бы изобрести эликсир Времени по рассасыванию этих пятен. И, слава Богу, уже хотя бы потому, что это не жировые бурые пятна над крематориями Освенцима и Майданека... Как странно все в мире взаимосвязано — Ицхак Рабин мог стать жертвой времен Второй мировой бойни, но он стал отчаянным генералом, ястребом, основателем партии войны в современном Израиле. Через годы он же стал миротворцем... Не помогло. Его убила ненависть. Эту ненависть не отменила и Нобелевская премия. Эта ненависть нашла его через годы. Самое удивительное то, что последователи этой ненависти оказались и в моём родном Киеве.
Этих людей не следует различать по армиям, которые они представляют — бывшей советской, либо израильской. Просто их объединяет общая ненависть, убившая признанного миротворца. Объединенных ненавистью людей устраивал молодой бравый генерал на желтом английском танке, истребляющий филемистян — нынешних палестинцев, за то, что те, в свою очередь, вот уже 5756 лет от сотворения Мира уничтожали и уничтожают евреев. Как странно... Завидное уравнение ненависти, длящееся вот уже шестую тысячу лет. Вот пример этой ненависти:
"Мой, генерал!.. Мой дорогой Рабин! Надеялся встретиться в Израиле... Скорблю. Крайне озабочен положением в Израиле, где возможно такое... Полковник технических войск Леонид Ноевич Гезенцвей."
Это письмо написано не миротворцу премьер-министру, а бравому двадцативосьмилетнему генералу, начальнику генерального штаба Израиля, страны, рождавшейся в кровавых муках Истории. Что удивительно, так это то, что в одном случае отметка ненависти застыла на пятидесятилетней метке — как память о Холокосте, а во втором случае — этой страшной зарубке почти шесть тысяч лет. Воистину — мафусаилова тяжба народов-братьев... Не та же страшная тяжба возникает у нас на глазах между русскими и украинцами, и куда мы придем, Господи, если только это допустим. Украина и Россия — это не ветхозаветная Палестина, а седьмая часть Человечества. История пощадила Германию — соседа на карте, ненавистного, страшного, покаявшегося... Но никогда еще История не щадила братоубийц, хотя к величайшему несчастью — мы все дети Каина — живые и мертвые...
И если на счёт живых еще и возникает сомнение: зато ли и те ли мальчики и девочки ездят сегодня в Германию, то на счёт убиенных Чернобылем сомнений уже не возникает... Правда, до сих пор возникает по-горьковски жуткий вопрос: а был ли мальчик?.. Не придумана ли смертность чернобыльских деток в угоду большой политики... А может быть никогда и не было этой страшной проблемы, или хотя бы, по крайней мере, за последние десять лет в мире не умирали отравленные Чернобылем дети... Только за последние пять лет в нашей школе умерло девять таких детей. Всех их, в той или иной степени, я знал, никто из них не был роботом, проползавшим по крыше разрушенного реактора, каждый из них навсегда оставался в стране с названием Детство. Следующую непростую главу я посвящаю их светлой памяти. Пусть будет так, как сделало Время... Пусть Человечеству достанется не страшная хроника, а светлый Миф... Но это будет завтра... Сегодня сказано уже достаточно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ШЕСТАЯ СВЕЧА.
Первая попытка осознания,
совместно с киевским поэтом Бенджамином Ханиным.
Где-то рядом лежали обломки Времени... В точке исхода из временного пространства протекала квазиЭра — целая бездна эпох бесконечно глухой тишины... Об этом уже сообщалось... Континуум фактов принял перегрузку потрясения на себя и выход осуществился... За границей Времени меня поджидало пятеро подростков... Они получили право посетить урок информатики... Скорее это была блажь безвременно усопших, но кто из нас не блажил?!.
Первое, что обнаружилось во времени — тротуар... На тротуаре, возле ларька начиналась наша Реальность. Тротуар уводил под мост, в густую тень всеощущения воспоминаний чего-то знакомого забытого напрочь... За чертой светотени асфальт в трещинах был расчерчен жесткой проволокой ночи. Ноги пришедших запутались в этой окаменевшей траве, и только здесь стали проступать менее черные, почти серые тени, пришедших из небытия...
Но перспектива Времени все ещё была смазана, и за ней тени были всё ещё ирреальны... По сторонам возникало нестойкое плетево линий, перелитое в контуры зеленоватого ртутного света в двух шагах или в двух парсеках от времени Бытия... Перспектива смазана... Что-то знакомое уже приходилось ощущать тем, кто пришел. То ли ходил этой дорогой ранее... То ли?..
Вторая попытка осознания.
Существуют два типа людей: один из них — вечные "унесённые ветром", вторые — вечные "морские камушки". И тем, и другим дано право жить в нашем мире. И тем, и другим, рано или поздно, уготовлена смерть, как и всем ныне живущим. Я всю жизнь стремился быть "унесённым ветром", но все глубже и глубже вгрузал в жизненный ил. Так вот и получился из меня неплохой "морской камушек", в меру вылизанный, даже там, где ранее были, щербинки и трещины.
Как "морские камушки", так и "унесённые ветром" всегда легко узнаваемы, или, по крайней мере, были такими, пока не случился Чернобыль. Он впился своими метастазами в Детство, и появились новые "унесенные ветром" — дети так и никогда не ставшие взрослыми.
Но страшно даже не это, а то, что, если правда, и существует вдруг эфемерный загробный мир, то и там они всего лишь "унесенные ветром". И там им не лечь на дно, не упокоить своей детской души. Мне так и кажется, что по вечерам они возвращаются в наш мир, воплощаясь в тени молодых деревьев, столь же хрупкие тени, какие были у саженцев, погибших у Четвертого блока. Затем тени становятся едва различимы, и к ночи гаснут, а не перешедшие черты Детства чернобыльские и припятские дети заходят в знакомую школу и бредут в ней на свет, в школьный кабинет информатики.
Они знают, в кабинете копошится старый чудак, и у него в подсобке стоит самовар. здесь можно выпить чаю, поговорить о новостях Детства, поспорить о том, о чем при жизни спорить не приходилось: например, о том, а следовало ли вообще являться в эту проклятую Реактором жизнь... Сидим, спорим, убеждаемся, — стоило!
Вот Вадька при жизни был замечательный клоун. Мог пройти на руках, запустить блайзером в класс, где выпускницы угощались бананами и шампанским, залететь за блайзером, забить за щеки бананы, резво ощупать двух-трех выпускниц девятого класса, показать язык дежурному от родительского комитета и умыться шампанским. Умер он на рассвете. Лопнули сосуды где-то в головном мозге. Прямо в туалете, где он как всегда очень резво мочился... Это не сказка, он резко хамил, резво мочился, и резво пил в свои неполные шестнадцать, потому, что боялся не успеть “отмочить” все детские номера. Теперь он неспешен, и все время спорит с тем, который в свои двенадцать резво выпрыгнул из окна двенадцатого этажа.
— Шеф, — задается вопросом Вадька, — что тебе дал этот полет?.. Крылья?
— Я искал Бога. — А его нет и здесь. Я думал, что он Сам меня встретит, а меня встретила здесь и навсегда осталась со мной ужаснейшая, не человеческая боль. Она здесь не отходит от меня ни на миг.
— А я своей боли и не почувствовал. А теперь вон — она тянет. Она оторвалась от тела вместе с душой, и теперь мне из нее не выпрыгнуть. Из боли. Если верить, что после смерти остается только душа.
Пока они разговаривают, брошенный под поезд Геннадий, только молчит. Потом замечает:
— Мне до сих пор страшно смотреть на себя в зеркало. Так и кажется, что душа, подобно лицу, разобьется на тысячу осколков. Меня еще живого, и уже убитого ударили лицом о проходящий встречно состав, только за то, что я возражал. Возражал быть поруганным, возражал быть ущербным, возражал пройти через грязь.
— А эти педики живы?
— Живут, они не торопятся в наш светоносный мир. Здесь они обречены на расплав.
— Но и нам тут не лучше...
Вечно "унесенные ветром". Они неторопливо пьют чай и растворяются не прощаясь, проходя сквозь бетон школьных угрюмых стен. Я мою стаканы, я знаю, что они придут завтра, им есть, что сказать.
Третья попытка осознания.
(Письма живых киевских детей безвременно ушедшим
припятским детям, без авторской правки по праву Памяти...)
"Здравствуй, незнакомый друг! Пишет тебе Бельковец Оксана. Я тебя не знаю, но очень хочу с тобой познакомиться. И я знаю, что это сделать невозможно. Потому, что тебя уже к сожалению нет в том мире, в котором живу я, и все остальные. Мне очень хотелось бы знать как тебя зовут? Мне очень жалко твоих родителей — ведь им было очень трудно было перенести это горе. Твои родители очень много страдали из-за этого горя, и, наверное, очень много ночей не спали. В другом мире, наверное, не так, как в мире, в котором живу я... На этом я буду заканчивать свое письмо. До свидания!"
"Здравствуйте, незнакомцы из другого мира! Меня зовут Ольга! Хочу рассказать о себе. Мне двенадцать лет. Я учусь в седьмом классе. Мне очень нравятся коты. Дома есть пушистый кот. Зовут его Марсик. Рыжего цвета. Я его очень люблю. Раньше была кошка Джеси, а потом Пушок. Теперь они перешли в ваш мир. Пожалуйста, вы их не обижайте! А ещё я люблю современную моду, но не сильно крикливую. Очень жаль, что вы не представляете последнюю моду землян. До свидания!"
"Здравствуйте, незнакомый друг! Я тебе пишу письмо. Мне очень хочется с тобой познакомиться. Меня зовут Наташа. Мне тринадцать лет. Есть у меня брат — его зовут Олег. Пожалуйста, прошу тебя написать мне письмо, но ты не можешь его написать. Я знаю, что ты мало прожила, и мне очень жалко тебя. Твои родители из-за твоей смерти очень страдают, Наверно потому, что я их не знаю, я очень хочу с ними познакомиться. Ещё мне очень тебя жалко, что у тебя так сложилась судьба, и она с тобой так обошлась. Я хочу чтобы ты знала что мне очень тебя жалко. И вот мне больше нечего писать. До свидания!"
"Здравствуй, дорогая незнакомая девочка! Я пишу тебе обыкновенное письмо. Ты прожила очень мало. И рано умерла. Родители твои в большом горе. Ты наверно попала в рай и тебе там очень хорошо живётся. Я думаю что у тебя на душе очень печально. Думаешь о родителях, о братике или о сестричке. В каком они тяжёлом состоянии, потеряв тебя. Они пролили столько слёз. Я бы хотела чтобы ты и твои родители были счастливы и хорошо жили. Мне тебя очень жаль, что судьба с тобой так поступила. Меня зовут Женя. У меня есть папа, мама и братик. Моих родителей зовут Валя и Вадим, а братика зовут Денис. Хотела бы я знать, как тебя зовут и как зовут твоих родителей. И как зовут тебя. Я очень хочу с тобой познакомится. Но, к сожалению, это не возможно, и мне очень жаль. Ну вот на этом я писать заканчиваю. Желаю тебе удачи! До свидания!"
"Незнакомец! Здравствуй! Пишу с этого мира, планеты Земля. Я не знаю тебя, но может ты видел меня в своём сне. Я знаю, ты сейчас в раю, хотя я и не знаю тебя, а ты меня. Мне бы хотелось узнать как вам всем там живётся. Мне вообще кажется, что всем вам там хорошо. Если бы я мог с тобой поговорить, то я бы хотел сделать тебе подарок, но не знаю получиться ли у меня это. Если бы я мог посмотреть, какой тот мир, в котором ты живёшь. Я смог бы рассказать про него всем, кого это интересует. У тебя наверное там много друзей. Я прощаюсь с тобой, но я буду думать о том, каким ты был при жизни. Этот письмо посвящено всем тем, кто не дожил до этого времени!"
"Привет друзья!!! Привет, ребята! Меня зовут Оксана. Хочу рассказать о себе, я учусь в седьмом классе, мне двенадцать лет. Я люблю собак особенно таких как: доберман, ротвейлер, бассет-хаунд, боксёр. Но, к сожалению, я не имею ни одной из них - мама не разрешает. Ещё я люблю современную музыку. Больше я вам ничего не напишу... Мне страшно".
На этом можно было бы и поставить точку. И чернобыльский мальчик, и чернобыльская девочка были... Но я хотел, чтобы прозвучал Реквием, и этим Реквием совершенно неожиданно вдруг стали стихи моего молодого друга поэта и режиссера Алексея Зараховича, работающего в очень небесспорном городе-дублёре Славутиче. Страшные стихи хорошего киевского поэта:
АЛЕКСЕЙ ЗАРАХОВИЧ
Положили тело в землю
Положили душу в небо
Положили уложили
Привели по вере служку
А душа ходила голой
И никто ее не слушал
В небе холодно
Октябрь
Возвращались поздно ночью
Ты мне открывала душу
Я тебе
Потом прощались
И душа всех провожала
И никто ее не слушал...
Потому что
Потому что
Положили тело в землю
А без тела что за песня
Душу выкинуть но тело
Разве выкинешь из песни
Вот такая значит песня
Я не слышал
Ты не слушал
Вот в такое, значит, небо
Положили голой душу
Положили тело в землю
Привели по вере служку
Чтоб душа не подглядела
Чтоб душа войти не смела
В дом, где отпевали душу
В дом, где вспоминали тело
Как неопытному романисту, мне пора бы уже было устыдиться тому обстоятельству, что я соскользнул на эпистолярный жанр, столь не характерный для конца двадцатого века. Но письма все шли и шли, и спорить с ними было опасно.
Они могли восстать и воззвать к моему прошлому. И потому я все черпал для себя в них силу. Это уводило меня от сюжета и настораживало внимательного читателя, но я все обещал, что сюжет будет, начиная с седьмой главы, в то время, как в шестую главу на подзавязку неожиданно вплеталось ещё одно непростое письмо:
"Здравствуй, Велечка! Извини, что не смогла по-человечески поговорить с тобой по телефону — мой сорокалетний организм нагло отказывается дружить с температурой той же цифры. Ну, а поскольку не лелею надежду застать тебя дома по телефону (ты вскользь упомянул, что сошелся со своей женой и я сделала дурацкий вывод, что ты опять живешь не с мамой), я решила тебе написать. Еще раз хочу поднять темы нашего телефонного разговора. Во-первых, о твоих стихах, которые твои друзья — поэты стали вдруг считать "стихами прозаика"...
Я, конечно, всего лишь полу мудрая одна-из-женщинка, и мужчинам (а они умеют подпрыгивать, и от того им кажется, что они видят будущее), я знаю, конечно, видней... Но я была бы искренне огорчена, если бы ты швырнул Вельку-поэта в пропасть, вместо обглоданной кости, как полагается. Не думаю, что ты обойдешься без наших рифмованных молний, которые лупят по голове и открывают глаза.
Ну, а проза... Знаю, манит, как лесоповал истинной житейской и игрой собственных мускулов. От души желаю тебе вырубить там поляну для солнечных лучей или тропинку для душ человеческих, но постарайся быть осторожным, не заплутай сам и не подружись с Бабой Ягой. И то, и другое особо опасно для людей-Поэтов, а как бы ты там с друзьями не думал, душой ты был, есть и будешь Поэтом, аминь!
Пишу тебе об опасностях прозы потому, что, не обижайся, я не в восторге от твоей идеи "ату" немцев как нации. Мне кажется, поэт, будучи (хочет он этого или нет) "усилителем" чувств, эмоций и т. д., должен быть несколько осторожен в проявлениях своего неприятия чего-либо или кого-либо. Когда мы порежем палец, то без труда и достоверно можем заставить людей прочувствовать Боль Вселенной. Стоит ли усиливать наше "личное" "ату" до масштабов общечеловеческого? Я не буду говорить на ту тему, что "ату" нации, вероисповеданий, семей, родов уже было в истории, есть сейчас, и ничего оно не принесло человеку, кроме злобы, боли и уродства...
Скажу лишь то, что мы не в праве использовать наш дар на усиление петли "Злость — Злоба — Страх — Ненависть — Злоба", в которой и так уже слишком давно болтается Человечество. Я не в восторге от немцев как нации, я не люблю негров, китайцев, зайцев и кабанов, но, наверное, Бог давно и надолго не в восторге ото всех нас и, тем не менее, мы живы, у нас есть дети, и мы знаем, что у детей наших детей будут дети, и младенцев не будут поражать молнии небесные за то, что они в каком-то колене нас, дураков, потомки. Не обижайся, Велечка, но мне не нравится твоя идея мести "за брата". Впрочем, может быть я в температурном угаре не так тебя поняла... На этой идее пока и закончу письмо. Не обижайся на меня, если вдруг где зацепила "против шерсти" — ты ведь знаешь, что я тебя очень люблю. Кстати, ты когда-нибудь выберешься к нам в гости (желательно днём), чтобы мы с тобой могли выпить бутылочку шампанского, поговорить о поэзии и прозе, и об жизни вообще?! До свидания. УДАЧИ! Под сим, женщина и поэт Галина Кулик".
Галя возвратила меня в мир Поэзии, и я вспомнил давно забытое свое стихотворение, печатавшееся не единожды за последние пять лет, посвященное памяти Вадима Бойко... Светлой памяти припятского Гавроша — Вадюши Бойко...
Перевод с наречия "болит"
с аритмией чёрной говорит....
Кто раньше состарится?
Девочки курят,
Мальчики думают о своём,
когда умирают Мальчики
С одного парадного,
С одной улицы,
День за днём...
Кто раньше состарится?
Девочки плачут,
Мальчики курят и хмурятся,
когда умирают Девочки
С одного двора,
С одной улицы,
День за днём...
Кто раньше состарится,
если случай представится?
Если взять и зажмуриться:
Один дом,
Один двор,
Одна улица...
Кто раньше состарится...
Никого не останется?!.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СЕДЬМАЯ СВЕЧА.
У этого романа счастливая судьба: ему достались преданные переписчики и наборщики— одиннадцатиклассницы Танюха и Яська, надёжные Хранители — Владимир Царьков, Вадим Кисляк, Татьяна Аинова, Борис Финкельштейн, порядочные Издатели и заинтересованные читатели. Всех их объединило наше ватное время, которое как бы продолжает течь, но в сплошных ластиковых протекторах и заглушках. Это время продолжает течь, затыкая и тампонируя совесть и Души тех, кто этому времени принадлежит. Это наше общее бремя. И такова наша общая совесть. И такие, как видно, наши, Господи, Души... Как здесь не воскликнуть извечное: — SOS!.. Save Our Soles... Save Our Spirits — Спасите Наши Души... Спаси же наши Души, Господь!..
А ведь каждому, кто однажды пришел на эту землю, на этой земле должно встретиться Чудо. И каждый должен постигнуть его, и поразиться этому Чуду. И каждый обязан сам попытаться создать подобное Чудо, во имя таких же, как и он, приходящих. Но так вышло, так уж получилось, что мы попали во времена Вейзмировской республики. А такая республика не способна явить миру блеск, и потому являет миру отчаянную нищету, настоянную на окрысках фашизма. До самого фашизма уже недалече... Протяни руку, и тень фашизоидных варваров отгрызет эту руку по самый локоть...
Случайно ли или нет, но миру сегодня явлена безумнейшая страна светотеней... Ленин на клавишах черных, и Ленин на клавишах белых. Эту картину создал великий Дали. Великий мэтр абсурдизма, потрясный мен — сам Сальвадор Дали!.. Мы много спорили, и почти догадывались о его пагубном образе жизни, об его прекрасной русской жене, но перед нами скрывали его прекраснейший образ мышления, которое и явило миру картину игры на клавишах страшненького фано... Но самой картины сирым нам не показывали и не показывают по извечно заведенному правилу — без нужды-то не искушай... Не искушай, ибо явленное на сцену в первом акте ружье обязательно выстрелит в третьем. А до третьего акта Истории — драмы, послеоптимистической трагедии большевизма и фарса “вейзмировской“ республики нам уже, не повториться бы, недалече...
Но зато ещё как проявляются отголоски уродливо-великого Прошлого: мишурные игрища светотеней — великие злодеяния и величайшие подвиги... И страна во всю ширь... С пятнадцатью миллионами заключенных. Гадость благости, и радости мало... И писать-то не смей!.. Ибо велика и потребна Система безликих концлагерей... И тебе в ней место размечено...
И вдруг остаётся после всего-то одна независимая Украина... Заключенных, и тех — всего три миллиона, вместо пятнадцати недавних всесоюзных, но зато у каждого борода с рыжинкой, хотя и нет ни единого Ленина... И эта безумная страна умудряется по-прежнему бредить и страдать Лениным. И когда бы вы думали? Во времена Вейзмировской республики. Не бред ли это?.. Бред величайший!..
"Вейзмир!", — кричали на идише верующие евреи довоенной Украины, обращая свои взоры к суровому и справедливому Б-гу.
“Вейзмир!..", — по-прежнему кричим сегодня все мы, несчастные дети Украины, пытающиеся понять её путь, заблудившиеся в её ментальности, и прозябающие в её мнимой, но прочной для сирых нас, нищете...
По-прежнему, не просто быть на Украине украинцем, русским, поляком. По-прежнему, не просто быть на Украине немцем, евреем. По-прежнему, не просто быть на Украине лохом... Для лохов, известное дело, существуют заезженные лоховозы. Лохи редко подстрижены, изредка сыты, изредка трезвы и жизнерадостны. Лохи — это мы с вами, дамы и господа. Мы... С нас и начнём...
Одно время в учителях, например, удобно было состоять... Партократам и аристократам, писателям и стяжателям, хапугам и нанимателям... Были и осведомители, и педофилы-любители... Были... Чего уж там греха таить, были... Все эти зоологические разнотипы где крупно, где мелко пропесочило время. Многие повыходили ва-банк. Те же, кто не ушли, сели на лоховозы, и поехали преподавать сумму человеческих знаний, разве, что иногда за вычетом правды-матки тем, кто завтра займет по праву свои ленные места в лоховозах, да еще и уплатит с лихвой за это... Теперь в школе остались те мы, кто, говорят, от Бога... Но от Бога ли нам сирым выходить на дорогу с протянутой рукой за подаянием?.. И до какой поры, Господи?!.
В году эдак 1990-ом, в эру директора-партократа, человека, с которым я просидел пять лет за одной интернатской партой, в школе установили факс. Удивительно, но я до сих пор слабо разбираюсь в великом манипулировании тех немногих кнопок на факсе, которые приводят к Успеху. Ещё с утра вы приходите преподавать физкультуру, а вечером вам передают персональный факс о том, что два ваших грейдера застряли где-то на лесоповале, посреди Красноярской тайги. Там в самую пору быть потомку очередного сталинского ГУЛАГ’а, ан-нет, этот лесоповал принадлежит Вам — простому учителю физры, ныне все еще учителю физры, который запросто смог бы обучить не одного облапошенного министра постсовковой экономики жестким законам Бизнеса. И это возможно только у нас, в Вейзмировской республике... Мерзость?!. Грязь?.. Отнюдь... Предприимчивость старого олимпийца-фехтовальщика. Жизнь подкалывала его, и он, где мог, в целях огульной сатисфакции, прокалывал эту нашу ту еще жизнь насквозь... Ибо он просто не желал быть причисленным к лохам из проходящего лоховоза...
Господину учителю физкультуры, самое время уехать в Германию, в страну без лесоповалов, ан-нет, не едет-с... Сударь-то... Мир Германии для него хреноват... Негде и грейдеру утонуть... С миллионами наворованными — наглухо, навсегда, с чьими-то потом и кровью, с чьими-то утонувшими в тайге судьбами, с чьей-то перешедшей всякую меру мерзостью. Ай да учитель физкультуры! Ай да и сукин сын... В три господа душу, мать-перемать. Но и эстеты: художники, поэты и политзэки в школу идут не надолго. Чаще затем, чтобы причаститься: помолясь Б-гу, и переплюнув через плечо. Но чаще всего - зря... Плюнут "взад" и попадут пальцем в то, что до них уже попадали... Жидкий да вязкий дрэк, в котором уже и до них барахтались Имя-Рек: неглупые мужчины и женщины...
Все об учителе физкультуры. В школе не работает ни единый спортивный тренажер, зато сей учитель получает вагонами сибирский строевой лес, и гонит из него в Европу прочную украинскую мебель, резную и разную... На уроках он неприметен, и так и хочется ему другой раз сказать:
— Здравствуйте, господин Корейко! — в учительской у него проблемы: куда девать человеку три полноформатные квартиры. А не продать ли к чертовой матери, и купить доходный дом, скорее всего публичный, с мебельным производством под боком... Знай себе, изготовляй разные кушетки и пуфы, и оживляй внутренний рынок, пока все прочие не намоются на задрипанных лоховозах. А уж как намаются, то отыщут и вилы в бок, и петлю, и мыло, и красного петуха. Здесь старые новости. Шёл бы этот учитель мимо детских душ погулять, но не уходит...
Тягчайшее преступление — это усреднение жизни. Вот Вам Вершина, Монблан, а вот Аризонская впадина, но на хрена вам и то, и другое... Да вам еще, может быть, водопад Викторию подавай?!. Нет уж, тюкайтесь носом над нулевой отметкой в грязный асфальт, и мать вашу так... Ужас духовного усреднения — самый тяжкий из ужасов, существующих на Земле.
С утра в очередной раз ноет сердце... В доме привычные препирания. Капризничает, плохо просыпающаяся по утрам, Танечка:
— Шкида, иди ко мне.
Я: Я не могу, я уже одет... В таком виде в спальню не входят... (про себя: "Особенно к теще!") Я спешу на первый урок.
И так шесть раз, пока Танечка, которая нежится в постели покойного дедушки, не врезает:
— Шкида, пошёл вон!
Старшенькой дочери Леночке пятнадцать... С очередным днём Варенья поздравляю по телефону....
Леночка: Отцовский долг?
Я: Другие отцы не задаются таким вопросом. Станешь старше - поймёшь...
Я им обоим все время обещаю куда-то деться. Но, как видно, никуда не денемся: ни я, ни они... Маленькие гризли вырастут и станут большими, и только тогда ко мне потянутся их хрупкие души... Хрупкие души девочек... Хрупкие души дочек. Хрупкие души девочек... Они тонки, ранимы, почти иллюзорны... Эти души ведут Человечество. Эти души, раньше других ранит и коверкает жизнь. И чаще других эти души страдают в школе, ибо нет сегодня ни мужских, ни женских гимназий, нет мудрых наставниц, но зато — в школе еще остались злостные классные дамы... Почти мегеры... Мне самому было трудно поверить, но оказалось, что поверить в это просто необходимо. Поверить и оградить. Ибо может произойти катастрофа...
Стандартная, редкозубая двоечница, существо добрейшее и неглупое, ищет теплоты и уюта, каких-то первых радостных ощущений, живет в преддверии чуда, сопереживает грусть осеннего ветра, музыку первого снега, слезы матери, и отчаянно не хочет ходить на уроки украинской литературы. Эта литература ей не нравится потому, что на этом предмете ее расстреляли... Двойками. Как вы можете представить состояние девочки, которая захаживала на урок всего три раза из шести прошедших, и за это получила одноразово семь двоек. Семь двоек в шести клеточках. Семь двоек на взлёте жизни, семь двоек тогда, когда шилось бальное платье на выпускной вечер, а душа устремлялась за алыми парусами. Семь двоек тогда, когда вечером уходила из дома, и встречала за дверью соседку. Соседка, пожилая женщина, опечаленная возрастными проблемами своего сына, косноязычного мальчика с плохим зрением, с никаким поведением, не способным совершать мужские поступки, уже потому, что и он не учился в мужской гимназии, что и его коснулся Чернобыль, лишив навсегда здоровья... Но он страстно тянется к девочке-соседке, желая ее общества, ее редкозубой улыбки, от которой он светится своими подслеповатыми глазами. Мать этого мальчика — учительница украинского языка. Нездоровье сына — её тяжкий крест. Она бьется отверженной от неба птицей, она настаивает на том, чтобы его принимали такие же как и он, подслеповатые и редкозубые.
Но у девочки за пазухой редкое счастье — маленький, лохматый комочек, похоже, что всех цветов радуги. Это котенок Кузя. Девочка и котенок — единое целое. Девочка ласкает котенка, а чьи-то сильные руки ласкают девочку... Это случилось вечером, а утром состоялся расстрел. После этого девочка на уроки украинской литературы больше не приходила. Она просто ушла со школы, где ей, маленькой и редкозубой одинадцатикласснице запретили любить мир с котенком Кузей и сильными руками ее будущего супруга. Сильные руки и редкие зубы ушли в вечернюю школу, а оттуда — в ЗАГС... И только школьный журнал сохранил память о подрасстрельной статье детства. Девочка перешла грань школьного детства и пожелала любить. Любить в пору, когда и детей-то земляне рожать не желали, памятуя Чернобыль...
Наши школьные учителя, мои коллеги, потому и лохи, что духовный Чернобыль они проводят в нашу жизнь постоянно. Не потерялся в мире и подслеповатый мальчик. Он усердно пошел по стезе матери, и он тоже будет учителем... Но станет ли?!. Дал бы Бог ему больше духовных сил, и пусть бы в памяти у него остался бы тот расстрел, произошедший по его невольной вине. А может быть роль здесь, в этой истории, сыграла слепая любовь матери? А может быть, может быть, может быть... Я постоянно встречаю худощавую, широкобёдрую, улыбающуюся миру женщину. Около неё всегда маячит коломенская верста ее мужа. Они проходят по жизни, они идут в дом, где, мурлыкая, их ожидает Кузя — огромный бахчевый кот. Иногда этот кот умудряется выскочить на лестничную клетку, и тогда, он трётся у ног будущего учителя. Тот стоит и курит. И все ещё пытается задавать Кузе вопросы, скорее силится, но вот спросить не решается. Так и живут рядом: любовь, ненависть, непонимание... А рядом — школа. В ней до сих пор работает расстрелявшая девочку мать.
Я бы предложил в школе аттестацию душ... Прошло несколько лет, можно было вспомнить и забыть какой-то другой эпизод, но стрессы и котята не уходят из жизни девочек. Вот новый тому пример: все началось неделю назад. Новые сильные руки подарили новой высветленной челке нового котенка, такой же "русской полосатой" породы... И пошли здесь новые запреты, и начались здесь новые слезы. Котенка в дом не пускали... Это я веду к тому, что не переводятся на Земле девочки, не переводятся на Земле сильные руки, не переводятся на Земле и запреты. Теперь, спустя неделю, котёнок спит на постеле, в ногах у девочки, преданно и сыто мурлыкая... И сегодня девочки смеются, и плачут. И плевать им на запреты, потому, что жизнь завтрашних землян должна оставаться в сильных и надежных руках. странная ментальность наших украинских детей — они ищут и находят сильную руку, доброе сердце, и всегда готовы сражаться за свои идеалы...
Германская школа начинается с лужайки любви, на которой сидят, лежат, урчат и целуются взасос длинноволосые немецкие подростки. Эти шалости не замечаются немецкими учителями. Там наоборот, как бы культивируют подростковую ментальность. Давайте вместе попытаемся понять, почему.
Интервью с девочкой-одинадцатиклассницей,
возвратившейся из поездки в Германию.
Автор: Существует ли в Европе границы?
Девочка: Не существует, или почти не существует. По крайней мере все границы можно проехать за бутылочку коньяка, кроме нашей, родимой... На нашей, родимой, вообще прелесть. На нормальной границе вкладыши не шустрят. Им там всем глубоко наплевать на то, что в одном автобусе, в одной туристической упряжке едут наглые мешочники и любопытные дети. Дети хотят увидеть, а мешочники — урвать. Но на нашей границе с автобуса ссаживают ни в чем неповинных деток, потому, что детки для плана, для галочки, у них просрочены вкладыши — какой-то дядя не там поставил запятую: "Казнить нельзя помиловать".
А вот мафия за такие штуки таможенным дядям черепа бьет, и потому мешочники едут беспрепятственно. За три дня в автобусе к этому привыкаешь: ночь, день, ночь... Беспробудно пьяные мешочники, сытые, наглые, озверелые... Одним словом, советские. И вот, слава тебе, Германия! В ней только начинаешь понимать, почему подросткам создают здесь особую субкультуру. Эта культура хорошо отработанной ненависти к нам, славянам... И это происходит в то время, когда все взрослые немцы, казалось бы, почти лебезят. Они предупредительно и ласково готовы прийти к вам на помощь. Я говорю в тему, или не в тему?
Автор: Говори как знаешь.
Девочка: Кто это заявлял и когда, что немцы безумно аккуратны. Сообщаю: в мире подростков постели практически не застилаются, сутками не застилаются. Ко всему прочему на них спокойно уживаются раскрошенные куски позавчерашнего пирога и нестиранные колготки. От этого в первые дни чувствуешь себя редчайшим идиотом. Неотдохнувшим, невыспавшимся, несвежим.
Если бы только это. Взрослые кормят редко, а у подростков своя отработанная тема: первый предупредительный вопрос насчет поесть выглядит так: "Ну ты же не будешь есть?" Мне бы сказать буду, не со зла, но надеюсь, что предложат выпить: чай, кофе, лимонад, и точно — предлагают: "Чай, кофе, лимонад?.." Чай и кофе у них неважнец — соглашаюсь на лимонад. И тут мне сообщают:
— Лимонада, извини, у нас нет. — Прикол тупой и простой: подтяни живот и вперед. Часами ходим по огромному вечернему Мюнхену. Вопрос прежний: "Чего бы пожрать?"
Берём на двоих шоколадку, медленно разжевываем, пытаясь ощутить на зубах хваленые немецкие орехи. И так каждый день, кроме одного, праздничного. Большой школьный обед: жидчайший грибной соус и еще более жидкое картофельное пюре. К ним нож и вилка. Требуется набрать, наскрести картофельную жижу на вилку, и, пока она не соскользнула в тарелку, попытаться заглотнуть. Но и сон, и еда не главное, хотя и взбодряют определённо. Ну, а особо изысканным блюдом являются семечки, запеченные в хлебе. От них так и тянет на рвоту.
Автор: Но не хлебом же единым жив человек?..
Девочка: И так о культурной программе. Как я уже и говорила, что ребята они простые до примитива, хотя и совершенно не так. Все они там поголовно панки, по крайней мере, добрая половина, и есть у них для этого основания. Панками быть хорошо. Класс!.. И есть почему... Хотя все они разноцветные, зачуханные, прыгающие под потолок... Но все же безумно счастливы: а как же, ведь у них есть свой чайный домик — целая песня в два этажа с баром. В силу гостеприимности, бар мы так и не видели. Нам его показали в серо-розовом цвете. Мы просто прошли его мимо. Зато на втором этаже — роскошь. Совершенно голые стены с намалеванными на них голыми девицами и непристойными надписями. Самая приличная из них — это типично интернациональное: "Fuck!", а самое неприличное мы там так и не поняли. Пространство с одним диваном и бильярдом.
На бильярде гоняют шары рафинированные панки. Правила игры в бильярд не для русских. Какой выгодный шар не тронь — бить нельзя, можно только самый "кривой". Хотя, вроде бы, различают их по цвету. Наш Ваня взял в руки кий, походил как идиот вокруг большого стола и даже прицелился... Но тут как раз оказалось, что бить по этому шару нельзя, как и по другому, и третьему.
Наконец, был выбран шар, по которому принципиально попасть было нельзя. Это и был подставной шар для русского. Чтоб не забывал, как однажды русские "Катюши" били уже по Берлину. Берлин, он город большой, а ты вот попади по шару. И Ваня сконфужено отошел... Наигравшись в бильярд, немцы отправляются в бар за чаем, который вносят на второй этаж на подносах, в маленьких театральных чашечках.
Вдруг замечают недоумение наших девочек — им чаевничать просто не предлагали. Тут же предлагают с галантным в общем-то недоумением: "И ты будешь пить?.." При такой постановке вопроса, естественно, не будешь, как и не будешь есть пикантные бутерброды с рвотно-деликатесными семечками. Как и вообще будешь считать дни до отъезда на Украину. Ай, да, Европа! Ай, да, сукины дети!
Cамая же пикантная подробность — диван. На нем молодые панки могут позволять себе вполне здоровый интим. Если честно, то в полный рост, как, впрочем, и дома, где заботливые родители постелят постель на двоих. "Все идеалы скрываются по одеялом", — гласит старая русская пословица. И мы с вами за панками в постель не полезем. Но все это произойдет в комнате, где временно живет третий: наш русский мальчик или наша русская девочка. Затем или его, или ее, пригласят в китайский ресторанчик, где на скабре-сленге начнут рассказывать о прелестях прошлой ночи и спрашивать у вас на фоксдойч-литературном немецком, согласны ли вы подтвердить сказанное. "Ja, я" обалдело будут говорить наши девочки и чувствовать на себе озверелые взгляды молодых панков... Тех ещё наци."
Вот так и происходят включение мозгов. И пусть кто-нибудь посмеет это вдруг отметать... Вот так и происходит случайно включение света среди кромешной ночи. И тогда в мире главенствуют свет и сползшее с двоих одеяло: "Прости, славянская девочка, мы отвлеклись, а впрочем... Мой дедушка мылся в русской избе, в большой бочке, мылся часами, совершенно голый, и плевал на хозяйку, которая возилась у печки. Он нёс вам, азиатам, хваленый немецкий порядок. Жаль, что вы его не поняли и не приняли. Хотя и носите ночные рубахи. Как бы вы не отворачивались от нас, но на ночных рубашках ваших невинных девочек почти всегда стоит маленькая лейба "Произведено в Германии".
Вы хорошо почувствовали, что при такой панк-логике и живой Киндер-сюрприз почти благодать Божья, снисходящая на славянских простушек под животворным небом Германии. Слава Богу, что славянские родители и хорошие славянские учителя думают и говорят нашим девочкам об этом иначе! Слава Богу, что извечно-прочная славянская мораль делает свое и дарует нашим девушкам положенную в их возрасте благость дщерей человеческих. Не прельщают их шиковские немецкие ангелы-сексоборцы. Все реже и реже ведутся наши девушки на хваленный Киндер-сюрприз. Слава Богу, что в этот раз не повелась ни одна...
Можно подумать, что о Германии говорю только в одном чёрном цвете, но из этого цвета я истопил Германии особую “баньку по-чёрному”... Не скрою — истопил бы. Ибо ненависть не прощает... И хорошо бы мне было думать о ней, баньке той, ибо по сторонам я смотреть не желаю... Но даже девочка, дававшая интервью, крайне возмутилась.
— Веле Николаевич, вы увидели только чёрную сторону медали! Так жить на свете нельзя!!! — тогда я задал вопрос: что она слышала о третьем значении в мире, после Лувра и Эрмитажа, Мюнхенском собрании изобразительных искусств. И водили ли их, вообще, туда. В знаменитую Пенатеку. "А это что и где?" — был вопрос подростка, праздно вышвырнутого на мюнхенские сытые улицы. Глазейте!.. Эту же девочку одноклассник, едва ли не на руках, оттаскивал от витрин. Рассказ был с добрым искрометным юмором... Впрочем, оказалось, что в знаменитое собрание изобразительных искусств их водили, но без их сверстников-панков обязательные немецкие учителя.
Нашим там показалось скучно, ибо они шли отбывать там мероприятие по убийству урочно-сытого эрзацбаварского времени, а в это время в Пенатеку ходили дети других украинцев, давно уже живущих в Мюнхене, и родившихся там по идейным соображениям. Их деды водили Ициков в Бабий Яр, в Украине их после этого не поняли. За такое на Украине, времен Сталина, мог быть и расстрел и двадцать лет лагерей. Но советские солдаты времен Сталина, в том числе и украинские, не сожгли и не разграбили Пентотеки, в то время, как Германия грабила Лувр и расстреливала из тяжелых орудий Эрмитаж в осажденном фашистами Ленинграде.
Да, бомбардировка Дрездена союзными войсками была генеральной репетицией Хиросимы, но союзные войска не разбомбили здание Пентотеки... Ну зачем показывать да еще акцентировать лохам, бедным славянским лохам этот удивительный мир изобразительного искусства — мир величайших мастеров Прошлого и Настоящего... Зачем акцентировать внимание этих юных людей на не загубленной красоте?!. Пусть эти юные люди так и останутся на Земле лохами, ибо такие лохи одинаково удобны и Германии, и Украине... Пусть припятские Гавроши собирают пустые бутылки на улицах Копенгагена, глазеют на мюнхенские витрины, пусть германские лохи покажут им, возведенным в звание киевских, припятским, украинским лохам, как можно дешево и безвкусно прожигать жизнь до времени, пока общество не слепит из них комфортных и сытых рабов, верноподданных своих, вейзмировских республик. Жаль только, что нельзя еще довести всех нас, лохов, до состояния животного начала, ибо наша горе-цивилизация придумала для нас много кнопок. В том числе и мирных чернобыльских атомных...
Современных лохов надо кормить глюкозой и транквилизаторами, а в Хьюстон на экскурсии вывозить тех, чьи отцы разграбили, еще недавно богатую Украину. Авось за деньги полетят они поглазеть и с космоса на мир ограбленных лохов, которыми так мило и легко управлять: секс, алкоголь, наркота, транквилизаторы, зрелища и, конечно же, насилие, кровь... Большая человеческая кровь... Не королевская, не президентская, а кровь тех, кого мельком заведут в картинные собрания, и поведут на бильярд с разноцветными шарами не для русских, где вполне комфортно чувствуют себя местные лохи.
Или мы все сразу однажды поймём, как жестоко обходятся с детьми, выезжающими на оздоровление за рубеж, или нас будут принимать за мартышек, управляемых перечнем средств ранее перечисленным. Будут не только принимать, а, рано или поздно, потреблять в соответствии с этим... Наши дети будут служить в ночных барах, качать детей и холить старух, мыть унитазы и чинить компьютеры, но они не будут читать Шиллера и слушать Баха, а Шевченко и Пушкина — они забудут. Они станут Манкуртами, но стоит ли это допустить?.. Я не только не поеду в Германию, но за последние деньги напишу этот роман, это мой набатный колокол во имя спасения нас — лохов.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ВОСЬМАЯ СВЕЧА.
И произошло чудо: Светильник с маслом на донце пропылал в Храме восемь дней и ночей, до того времени, пока, согласно Ритуала не было изготовлено и освящено масло из олив нового Урожая.
Человек приходит на Землю прочувствовать, пережить жизнь, которой нет в других мирах, в бездне других миров... Нет этой Жизни и в других измерениях... А дальше — у кого что получается... Кто комедиант, кто трагик, кто драматург собственной Реальности. Лучше же или хуже люди живут — это только подозрение на то, что лучше или хуже живется им на Земле... Ибо каждый своей собственной жизнью подпитывает в себе все свое самое лучшее и все свое самое худшее... Это и есть самость...
Но и то, и другое обычно кончается. Меняется окружение жизни, меняется окружение человека, меняется и сама жизнь, меняется и сам человек. Прекрасно, если только при этом и сам человек способен мудро менять свое амплуа. Но так обычно не происходит.
Актер ещё стремиться и становится президентом, но ни один президент еще никогда не метит стать дешевым фокусником или последним провинциальным актером. Хотя в действительности, в действиях тех или иных президентов и того и другого хватает в достаточной мере. Я часто обо всем этом думаю, и как видно даже во сне. У снов же вообще странные свойства. Они быстро вытесняют собой Реальность и создают миры в которых все еще более выпукло и более страшно чем в нашей с вами Действительности...
ЧАНИТРА
(сон-сказка)
Сегодня мне снился сон: всех немцев с Земли выслали на позволившую принять их к себе планету. Если Гея во вселенной называется голубой, то Чанитра во вселенной носит имя Зелёный. Чанитра приняла немцев со всеми творимыми ими войнами, со всем их вооружением и амуницией...
Немецкий вермахт получил право возглавить высадку и продвижение колонн рейнджеров и пионеров, миссионеров и скаутов... Но донесение об ушедших в глубь зеленого ада растворились ни зги. Наконец осталось всего три генерала и два ефрейтора да ещё одна гаубица — огромная ржавая пушка и к ней бездна зарядов.
Их вырыли со всей огромной земли, израненной войнами. Снарядов было очень много, так как немцы все воевали и воевали. Все народы Земли устали от этих воен. Устали даже два ефрейтора из инвалидной команды... Устали все...
Не устали только три бравых немецких генерала в синих парадных мундирах с серебряными эполетами и черными орденами. Они командовали высадкой германских войск на Чанитру. У троих, из пятерых оставшихся, в жилах была война, а у других — инвалидов война в душе только ныла... Генералы оккупировали планету и расстреливали её непрерывными перманентными взрывами. А инвалиды со стариковской неторопливостью подносили снаряды к затвору раскаленного жерла, и оно все рвало, и рвало неведомое пространство...
На Чанитре, казалось бы, были отменены законы баллистики. Снаряды уносило неведомо куда, в какой-то специально приготовленный для разрывов этих снарядов сыр-бор, до которого неведомым жителям зеленой Чанитры не было ни малейшего дела... Так было до тех пор, пока в одного из инвалидов-ефрейторов не влюбилась синекудрая чанитрянка Зильбрида. Она вышла из тени деревьев, казавшихся немцам адом, и сказала, что ее планета была когда-то ветхозаветным Эдемом. А еще она рассказала, что бесконечно любит старого Ганса, и постарается это всем им в ближайшем времени доказать. Затем она спросила у генералов:
— Что успокоит, Вас, генералы?
— Смерть тех несносных существ, которые не похожи на нас, которые не желают признавать нашего преимущества, нашего превосходства, нашей огромной силы...
— Это точно, Ганс, скажи мне, любимый.
— Яволь, моя курочка. Эти трое не уймутся пока окончательно не сойдут с ума или не победят...
— А разве они уже не сумасшедшие...
— Как для землян, то они вполне здравые земные ястребы...
— Тогда действительно мне их не понять... Ведь я же Горлица. Но я могу скорректировать огонь вашей безумной пушки. Она сможет выстрелить по таким же пушкам, таких же прибывших с Земли сумасшедших.
— И это будет конец нашим общим мучениям?
— Думаю, что да... Вы просто разом прицельно уничтожите друг друга, и на Чанитре возобладает мир...
— Ах ты курицы дочь! В этом твоем мире не будет нас.
— Не будет и меня, мой милый, но ты станешь дыханием свежего ветра, и он проветрит Чанитру от едкого артиллерийского дыма и кислого запаха пороха...
— А страшно стать дыханием свежего ветра? — испуганно спросил свою синекудрую возлюбленную Ганс...
— Не страшнее, чем стать пушечным мясом. Не страшнее, чем быть жертвой, не страшнее, чем прожить жизнь на земле немцем.
— Ты только немцев не трожь!.. — резко рявкнул тут Ганс — ефрейтор тысячелетнего вермахта. Но кричать ему было уже не на кого...
Душа голубоволосой чанитрянки перешла в начиненную тротилом болванку очередного снаряда, и увела его строго на жерло такой же страшной гаубицы, стрелявшей по другую сторону Чанитры в неведомый сыр-бор потерянного пришельцами Рая.
...Ефрейтора Отто по другую сторону Чанитры полюбила чанитрянка с розовыми волосами Эльмира. Зильбрида и Эльмира, и сотни других горлиц с такими же разноцветными волосами и нежными голосами неведомых на земле птиц, пронеслись над Чанитрой и разорвали на мелкие осколки все ввезенные на планету варварские гаубицы воинствующих землян, превратив всех Гансов и Отто, и всех их генералов в дыхание свежего ветра над Чанитрой...
Это дыхание ещё и сегодня можно услыхать над осенней Землей. Это дыхание нет-нет и донесет до землян души эдемских горлиц, сплавленных с душами немецких солдат, высланных на Чанитру общим проклятием Человечества. Идут сегодня войны и на самой Чанитре... И там свои немцы, и свои властелины миров... А вдруг всех их вышлют к нам с планеты, на которой когда-то прежде был ветхозаветный всемирный Рай. Не превратимся ли мы тогда сами в дыхание свежего ветра над нашей израненной Геей, над нашей Землей... Во имя гармонии во Вселенной...
Нам надо научиться прощать своих врагов, но ни на миг не забывать, что когда-то они были врагами. Надо уже и нам, и им научиться рассматривать хрупкие цветы под ногами и столь же хрупкие звезды над головой. Да так, чтоб только после этого захотелось сказать: "Аминь!" И сказал бы...
Но тут ненависть, вечная слепая ненависть возобладала. Потому, что пришло письмо все и всех прощающее.. Потому, что пришло письмо без памяти от молодой еврейской поэтессы из города Шепетовки. Беспечная молодость не только простила, но и забыла, что на земле был Бабий Яр. Вот это письмо:
"Здравствуйте, уважаемый Веле Николаевич! "Притча об Иудином дереве" мне очень понравилась. Страшно все это. Веле Николаевич, я не согласна с вами, что Германия сейчас фашистская. В передаче "До шестнадцати и старше", да и в других передачах и шоу показывают, что Германия такая развитая страна. Что там очень хорошие люди, они хорошо живут. Ни каких фашистов я там никогда не видела. Куда больше их у нас: и в России, и в Украине.
Например, в той же передаче показывали одну девчонку, которая яростно ненавидит и евреев, и негров. Устраивает в институте со своими друзьями дебоши, одинаково ненавидя, в том числе и украинцев, ибо, она борется за чистоту русской нации, как наше УНСО за чистоту украинской. Чем же Вы отличаетесь от них, Виктор Николаевич?
Вот и наше львовское УНСО набирает в лагерь к себе подростков, и воспитывает их в военном духе. А вот про Германию я что-то такого ни разу не видела и не читала в газетах. Сейчас Германия совсем другая, чем фашистская сорок пятого года. Ни Германия, ни немецкий народ не виноваты в прошлой войне, а виноваты только фашисты. По-моему, это даже подростки знают. А вы такое пишите в вашем романе. Насчет гуманитарной помощи, то может что-то подставляется не свежее. Но нам еврейское общество все время помогает германскими продуктами и одеждой. И ничего ещё порченного не попадалось.
Плохо, конечно, что у нас своих продуктов нет, и что приходится брать гуманитарную помощь. Но что же поделаешь... А другие страны, Германия, в том числе, нам же помочь хотят, зачем же на них выливать ушат грязи?!. Они же добрые люди. Великая Отечественная война меня мало интересует. Это что-то такое далекое для меня и за время школы страшно надоевшее. Никто толком теперь не знает, какая была эта война. В газетах пишут одно, по ТВ — другое. Больше меня интересует загадочное время сталинизма. О нем последние четыре поэтические строчки моего письма:
Камни отсчитывают время...
— То вперёд, то назад.
Идёт дикое племя —
строить сад”.
Вот так мы его и строим наш совместный сад — сад забвения. Я не хотел бы оказаться в этом саду садовником, именно по этому в Германию я не уеду. И не мне говорить сколько сорной травы выращено в нашем общем саду за очень не простые последние годы истории. Обычно говорят: время покажет. А я добавляю — в Германию я не уеду. Если и не повинны отдельные немцы, то всей Германии я не простил, и, как видно, не прошу никогда.
сентябрь 1995-апрель 2000 гг.
© Copyright: Веле Штылвелд, 2003
Свидетельство о публикации №203031600138
Лев Ханин|16.09.2008 12:40 Вы, знаете - потрясающая вещь! Ненависть, чувство сложное, объединяет многое и ... многих. Но факт тот, что мы прощать не можем, не имеем права. Могут простить только те, кто погиб. А они не могут, даже, если бы захотели. Но кажется мне, что не захотели бы.Я Вас понимаю. Всего доборого Вам. Лев.

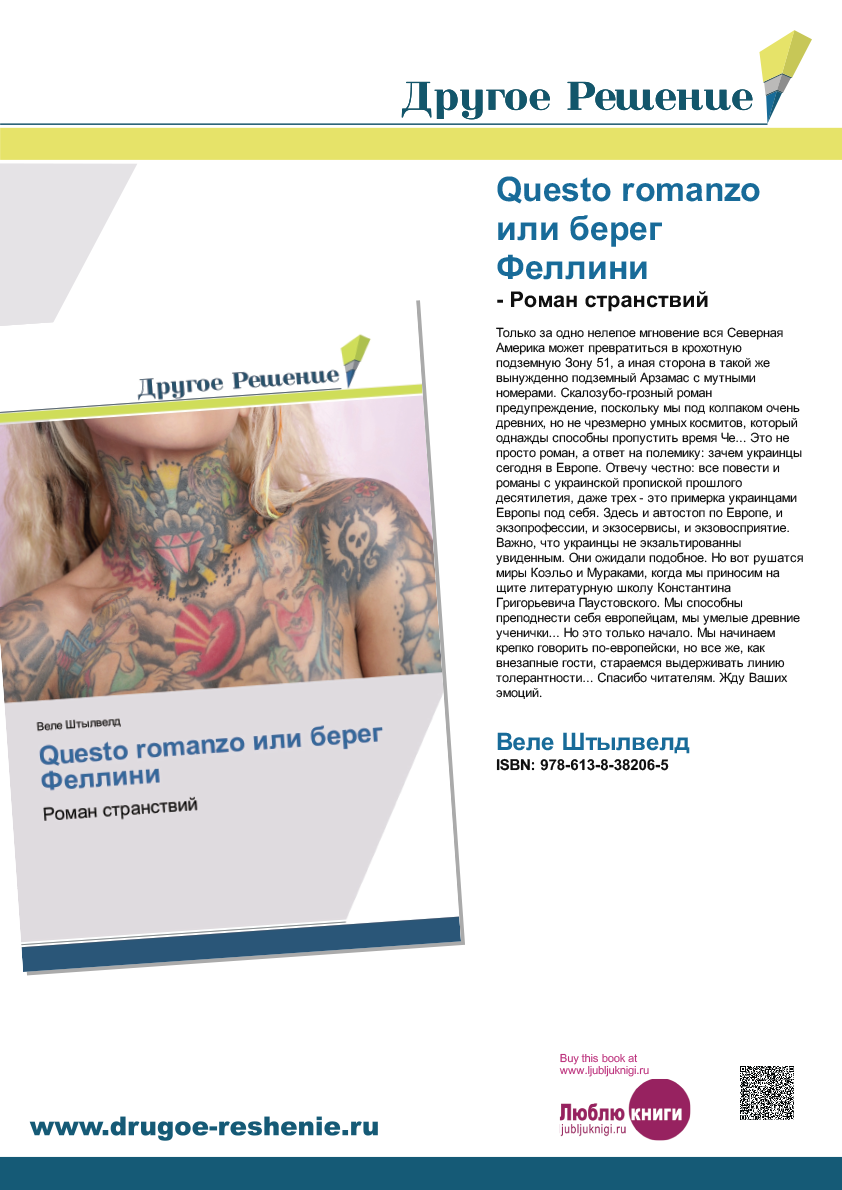


Комментариев нет:
Отправить комментарий